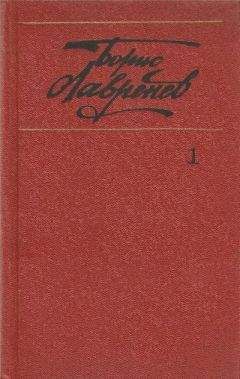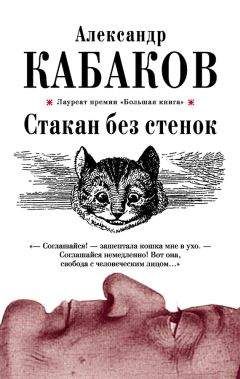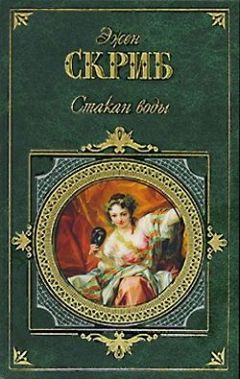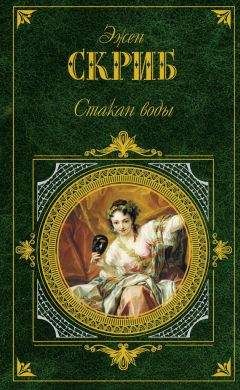Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы
— А дело серьезное?
— Не знаю, отец. Ничего заранее не могу сказать.
— Не хочешь, значит. Видать, серьезное… Ну, отлично. Я посплю немного — ты поди.
Михаил Викентьевич повернулся на бок. Василий бережно подвернул одеяло ему под спину и несколько секунд смотрел на затылок отца. Над жилистой, худой шеей всклокочившиеся от подушки волосы отливали серебром, были тонки и пушисты, как волосы годовалого ребенка. В этих волосах, в изгибе шеи Василий впервые остро ощутил отцовскую старость, всю усталость уходящей к закату жизни. Он нахмурился и вышел в свою комнату.
Там он сел к столу, взял раскрытую книгу, но, не дочитав до конца страницы, отложил ее.
Он хотел осмыслить случившееся. Ни он, ни Вика не замечали, что отец стареет. В дружной жизни семьи были только старший и младшие. Но и это различие, особенно с тех пор, как вырос Вика, осталось только формальным. По существу, его не было, и оно особенно терялось в спорах и дискуссиях, когда отец горячился, как мальчик.
Было только сознание большой дружности, теплоты, взаимного внимания, стиравшее все перегородочки между тремя людьми различных возрастов. Оставаясь внутренно молодым, полный молодой горячности, Михаил Викентьевич был среди троих только самым опытным, лучше остальных знающим жизнь.
Если бы кто-нибудь в это утро, до телефонного вызова с завода к отцу, назвал при Василии Михаила Викентьевича стариком, Василий был бы искренно удивлен. Отец — старик? Да нет же. Он молодой. Он, по существу, моложе, хотя бы, Леонида. В нем никогда не было расхлябанности, вялости, бесформенности. Всегда живой, энергичный, четкий, он не мог быть стариком.
И вдруг сразу тяжкое, медное латинское слово, эти старческие слезы, беспомощная рука поверх одеяла, седой пух на затылке, все признаки усталости и сгорания. Как это могло случиться, как они проглядели?
Из строя их жизни выпадал один, самый большой, самый крепкий, тот, который вводил в эту жизнь двоих младших, был им опорой и лучшим другом.
Василий вскочил и зашагал по комнате.
«Прозевали… Да, прозевали старика… не заметили старости, — думал он, меряя шагами комнату, — нужно исправлять, нужно позаботиться о его покое. Только он покоя не захочет. Он, как рабочая лошадь, умрет в оглоблях, на ходу. Умрет? Кто? Отец? Что за чепуха? Как может умереть отец, вот этот самый живой отец, который дремлет там за дверью на своей кровати? Если остановиться и прислушаться, можно услышать даже его дыхание. Живое дыхание. Как же он может умереть?».
Василий остановился и в самом деле тревожно прислушался. На цыпочках подошел к двери, неплотно притворенной, заглянул в щель. Михаил Викентьевич лежал в той же позе. Одеяло мерно подымалось и опускалось. Значит, дышит, — все в порядке.
Он облегченно отошел и тотчас же услышал щелканье французского замка в прихожей и стук захлопнувшейся двери. И через секунду в комнату ворвался Вика с задорным хохотком, с весенним смугловатым румянцем на щеках.
— Васька! Ты дома? Сдал зачет… Сдал, понимаешь, на большой палец с покрышкой. Профессор даже…
— Тише, — шикнул Василий и в ответ недоуменному взгляду брата уронил тихо: — Не шуми… Отец нездоров.
— Что? — спросил Вика, не понимая. Ему, ничего не знавшему, ворвавшемуся с весенней улицы, полному своей радостью, было непонятно, как можно быть нездоровым в такой день. Он еще меньше Василия мог думать, что отец способен захворать.
— Что с папой? — повторил Вика уже шепотом.
— Да ничего особенного. Просто мы с тобой, брат, проморгали отцовский возраст. Понимаешь, отец-то у нас, оказывается, настоящий старик. Ну вот и болеть ему пора… Устал, и сердце устало. Нужно о нем подумать теперь. Был он долго нашей нянькой, теперь ему нянька нужна. Понял?.. Завтра отправлю его к Бекману. А пока он заснул.
Вика осторожно подошел к двери и заглянул в комнату отца. Он долго простоял там. И очевидно, увидел то же, что и Василий.
Когда повернулся к брату, был бледен, и губы сошлись черточкой.
— Это опасно? — спросил он решительно.
Василий отозвался не сразу.
— В его возрасте, — а оказывается, что возраст-то у него большой, — все опасно.
Вика подошел к брату и, не сказав ни слова, нашел его руку и стиснул ее изо всей силы, и Василий ответил ему тем же.
Этим безмолвным рукопожатием братья сказали друг другу все, что нужно было сказать в минуту тревоги и опасности, обрушившейся на семью.
Пятиэтажная, темно-шаровая громада дома, в котором жил профессор Бекман, врезалась, как утес законченных геометрических очертаний, грузный и подавляющий, в бесформенную пену одно- и двухэтажных провинциальных домиков.
Дом был одним из скороспелых грибов строительной горячки предвоенного периода, времени лихорадочного роста города.
На его фронтоне сумрачно корчились в каменных судорогах два крылатых дракона. Им было скучно стеречь купеческий архитектурный бред, но оторваться и улететь они не могли.
Об этом подумал Михаил Викентьевич, когда, сойдя с трамвая, приближался к подъезду. С трудом открыв окованную медью дверь, он очутился в вестибюле, облицованном темным мрамором. В разноцветные стекла готического окна скупо пробивался свет. Вестибюль был похож на склеп ассирийского сатрапа, обладавшего при жизни потрясающим безвкусием.
Михаил Викентьевич даже усмехнулся, взглянув на пухлые, обрюзгшие, точно лоснящиеся от ожирения, черные колонны.
Он поднялся на второй этаж и позвонил, нажав фарфоровую кнопку под эмалевой дощечкой с надписью: «Профессоръ Венедиктъ Львовичъ Бекманъ».
Дощечка была, очевидно, старая. Все четыре слова заканчивались твердым знаком, и Михаил Викентьевич подумал с презрительной иронией, что профессор не разорился бы, заказав новую дощечку.
Горничная в наколке и накрахмаленном фартучке открыла дверь и пристально, недоверчиво оглядела Михаила: Викентьевича.
— Вы к профессору?
— Да, — ответил Михаил Викентьевич, — профессор назначил мне прийти. Моя фамилия Левченко.
Горничная отступила в квартиру, пропуская Михаила Викентьевича.
— Пожалуйте.
Михаил Викентьевич положил на столик в передней шляпу и прошел за горничной по коридору.
— Вот здесь обождите, — сказала горничная, раскрывая дверь, в которую хлынул широкий ясный голубой свет. Михаил Викентьевич вошел — дверь захлопнулась.
Приемная Бекмана была обширна и высока. За двумя большими окнами зеленел сад, и вдали, за рядами низких домиков, искрилось море. Михаил Викентьевич подошел к окну, сел в уютное кресло и огляделся.
В жизни ему довелось бывать у врачей раза три-четыре. Было это в большинстве случаев в маленьких городках, у обыкновенных бедняков врачей. Помнил он и квартиру-особнячок доктора Куркова. Но никогда он не видел ничего похожего на приемную Бекмана.
Она напоминала скорее музей. В три ряда от потолка она была завешана картинами. Михаил Викентьевич внимательно осмотрел все четыре стены. Его поразил подбор картин. Это были сплошь батальные сюжеты, в большинстве работы старых мастеров. На полотнах сталкивались конные и пешие массы людей, лилась кровь, сизо заволакивал дали пороховой дым.
Для мирной приемной врача они были неожиданны, слишком резко напоминали о смертях, несчастиях, насилии. Михаил Викентьевич отвернулся и стал смотреть в окно. Он почти жалел, что согласился на предложение Василия пойти к Бекману. Припадок прошел бесследно, не оставив никаких болезненных ощущений, и Михаил Викентьевич склонен был считать его просто случайным результатом волнения и раздражения.
Он никак не мог примириться с мыслью о болезни. Она противоречила всей его жизни. Болезнь была для него отвлеченным понятием. Даже в годы каторги, в Якутии, когда вокруг гибли от болезней товарищи, Михаил Викентьевич отделывался только легким недомоганием. Когда, в дни гражданской войны, сыпняк тысячами косил красноармейцев, когда каждую неделю политотдел провожал в могилу своих работников, Михаил Викентьевич ни разу не захворал даже насморком. Здоровье было для него верным товарищем и подспорьем в его неустанной работе. Мыслить жизнь без работы Михаил Викентьевич не мог. Это было бы так же нелепо и ирреально, как море без воды. Михаилу Викентьевичу никогда даже не приходило в голову, что может когда-нибудь наступить время одряхления, слабости, бессилия. Оставить работу — значило покинуть завод, коллектив, товарищей, уйти куда-то в мутную пустоту. Этого не могло быть.
Михаил Викентьевич зябко поежился, представив себе эту пустоту.
Но в эту минуту полированная красная дверь бесшумно открылась. За ней блеснуло белое, розовое, серебряное, и это блеснувшее видение сказало быстрым говорком:
— Милости прошу… Извиняюсь, что задержал.
Михаил Викентьевич встал и, идя в кабинет профессора, почти с испугом констатировал, что волнуется и от волнения у него слабеют ноги и расшатывается походка.