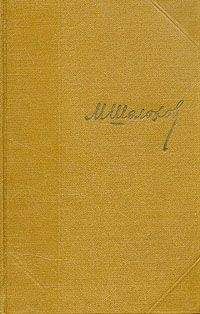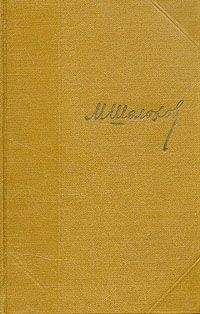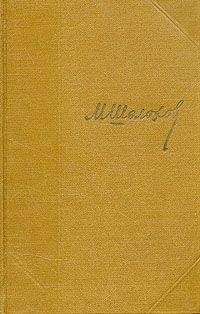Михаил Шолохов - Том 3. Тихий Дон. Книга вторая
Неподалеку от него и весело и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетала в сердце каждая каждому.
Говорили о семьях, о родных, о близких… Говорили о том, что хлеба хороши: грач в пшенице уже схоронится — и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом — измученные физически и нравственно, засыпали лежа, сидя, стоя.
Уже на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд; страшно, как плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов:
— Замолчи, проклятый!
— Баба! — выпалом.
— Зоб вырву — за-мол-чи!.
— Слезу пустил, семьянин!..
— Тут спят люди, а он… совесть потерял!
Тот, кто заплакал, — хлюпая носом, сморкаясь, притих.
Совсем установилась было тишина. В разных углах светлели цыгарки, но люди молчали. Пахло мужским потом, скученными здоровыми телами, папиросным дымом и пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы.
В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа.
— Кто идет? — негромко спросил один из караульных.
Кашлянув, ему ответил издалека молодой охотливый голос:
— Свои. Могилу подтелковским идем рыть.
В лавчушке разом все зашевелилось.
XXXОтряд татарских казаков под командой хорунжего Петра Мелехова прибыл в хутор Пономарев 11 мая на рассвете.
По хутору сновали казаки-чирцы, вели на водопой коней, толпами шли на край хутора. Петро остановил отряд в центре хутора, приказал спешиться. К ним подошло несколько человек.
— Откуда, станишники? — спросил один.
— С Татарского.
— Припоздали вы трошки… Поймали без вас Подтелкова.
— Где же они? Не угнали отсюдова?
— А вон… — казак махнул рукой на покатую крышу лавчушки, рассмеялся: — сидят, как куры в курятнике.
Христоня, Григорий Мелехов и еще несколько человек подошли поближе.
— Куда ж их, стал-быть, направляют? — поинтересовался Христоня.
— К покойникам.
— Как так?.. Что ты брешешь? — Григорий схватил казака за полу шинели.
— Сбреши лучше, ваше благородие! — дерзко ответил казак и легонько освободился от Григорьевых цепких пальцев. — Вон, гляди, — им уж рели построили, — он указал на виселицу, устроенную между двух чахлых верб.
— Разводи коней по дворам! — скомандовал Петро.
* * *Тучи обложили небо. Позванивал редкий дождь. На край хутора густо валили казаки и бабы. Население Пономарева, оповещенное о назначенной на 6 часов казни, шло охотно, как на редкое веселое зрелище. Каза́чки вырядились, будто на праздник, многие вели с собой детей. Толпа окружила выгон, теснилась около виселицы и длинной — до двух аршин глубиной — ямы. Ребятишки топтались по сырому суглинку насыпи, накиданной с одной стороны ямы; казаки, сходясь, оживленно обсуждали предстоящую казнь; бабы горестно шушукались.
Заспанный и серьезный, пришел есаул Попов. Он курил, жевал папиросу, ощеряя твердые зубы; казакам караульной команды хрипло приказал:
— Отгоните народ от ямы! Спиридонову передайте, чтобы вел первую партию! — Глянул на часы и отошел в сторону, наблюдая, как, теснимая караульными, толпа народа пятится от места казни, окружает его слитным цветистым полукругом.
Спиридонов с нарядом казаков быстро шел к лавчушке. По пути встретился ему Петро Мелехов.
— От вашего хутора есть охотники?
— Какие охотники?
— Приводить в исполнение приговор.
— Нету и не будет! — резко ответил Петро, обходя преградившего дорогу Спиридонова.
Но охотники нашлись: Митька Коршунов, приглаживая ладонью выбившиеся из-под козырька прямые волосы, увалисто подошел к Петру, сказал, мерцая камышовой зеленью прижмуренных глаз:
— Я стре́льну… Зачем говоришь — «нет». Я согласен, — и улыбчиво потупил глаза: — Патронов мне дай. У меня одна обойма.
Он, бледный Андрей Кашулин, с лицом, скованным сильнейшим злым напряжением, и калмыковатый Федот Бодовсков — вызвались охотниками.
По сбитой плечо к плечу огромной толпе загуляли шепот и сдержанный гул, когда от лавки тронулась первая партия приговоренных, окруженная конвоировавшими их казаками.
Впереди шел Подтелков, босой, в широких галифе черного сукна и распахнутой кожаной куртке. Он уверенно ставил в грязь большие белые ноги, оскользался, чуть вытягивал левую руку, соблюдая равновесие. Рядом еле волочился смертно-бледный Кривошлыков. У него сухо блестели глаза, рот страдальчески дергался. Поправляя накинутую внапашку шинель, Кривошлыков так ежил плечи, будто ему было страшно холодно. Их почему-то не раздели, но остальные шли в одном белье. Лагутин семенил рядом с тяжеловесным на шаг Бунчуком. Оба они были босы. У Лагутина порванные исподники оголили желтокожую голень, поросшую редким волосом. Он шел, стыдливо придерживая порванную штанину, дрожа губами. Бунчук посматривал через головы конвоиров в серую запеленатую тучами даль. Трезвые холодные глаза его выжидающе, напряженно мигали, широкая ладонь ползала под распахнутым воротником сорочки, гладя поросшую дремучим волосом грудь. Казалось, ждал он чего-то несбыточного и отрадного… Некоторые хранили на лицах подобие внешнего безразличия: седой большевик Орлов — тот задорно махал руками, поплевывал под ноги казаков, зато у двух или трех было столько глухой тоски в глазах, такой беспредельный ужас в искаженных лицах, что даже конвойные отводили от них глаза и отворачивались, повстречавшись случайным взглядом.
Идут быстро. Подтелков поддерживает поскользнувшегося Кривошлыкова. Приближается белеющая платками в красном-синем разливе фуражек толпа. Исподлобья поглядывая на нее, Подтелков громко, безобразно ругается и вдруг спрашивает, поймав сбоку взгляд Лагутина:
— Ты что?
— Поседел ты за эти деньки… Ишь песик-то тебе как покропило…
— Небось поседеешь, — трудно вздыхает Подтелков; вытирая пот на узком лбу, повторяет: — Небось, поседеешь от такой приятности… Бирюк — и то в неволе седеет, а ить я — человек.
Больше они не говорят ни слова. Толпа придвигается вплотную. Виден справа желтоглинный продолговатый шов могилы. Спиридонов командует:
— Стой!
И сейчас же Подтелков делает шаг вперед, устало обводит глазами передние ряды народа: всё больше седые и с проседью бороды, фронтовики где-то позади — совесть точит. Подтелков чуть шевелит обвислыми усами, говорит глухо, но внятно:
— Старики! Позвольте нам с Кривошлыковым поглядеть, как наши товарищи будут смерть принимать. Нас повесите опосля, а зараз хотелось бы нам поглядеть на своих друзьев-товарищей, поддержать, которые духом слабы.
Так тихо, что слышно, как стукотит о фуражки дождь…
Есаул Попов, где-то позади, улыбается, желтея обкуренным карнизом зубов; он не возражает; старики несогласно, вразброд выкрикивают:
— Дозволяем!
— Нехай побудут!
— Отведите их от ямы!
Кривошлыков и Подтелков шагают в толпу, перед ними раздаются, стелют уличку. Они становятся неподалеку, сжатые со всех сторон людьми, ощупываемые сотнями жадных глаз: смотрят, как неумело строят казаки поставленных затылками к яме красногвардейцев. Подтелкову видно хорошо, Кривошлыков же вытягивает тонкую небритую шею, приподнимается на цыпочках.
Крайним слева стоит Бунчук. Он чуть сутулится, дышит тяжело, не поднимая приземленного взгляда. За ним, натягивая подол рубахи на порванную штанину, гнется Лагутин, третий — тамбовец Игнат, следующий — Ванька Болдырев, изменившийся до неузнаваемости, постаревший, по меньшей мере, на двадцать лет. Подтелков пытается разглядеть пятого: с трудом узнает казака станицы Казанской Матвея Сакматова, делившего с ним все невзгоды и радости с самой Каменской. Еще двое подходят к яме, поворачиваются к ней спиной. Петро Лысиков вызывающе и нагло смеется, выкрикивает матерные ругательства, грозит притихшей толпе скрюченным грязным кулаком. Корецков молчит. Последнего несли на руках. Он запрокидывался, чертил землю безжизненно висящими ногами и, цепляясь за волочивших его казаков, мотая залитым слезами лицом, вырывался, хрипел:
— Пустите, братцы! Пустите, ради господа бога! Братцы! Милые! Братушки!.. Что вы делаете?! Я на германской четыре креста заслужил!.. У меня детишки!.. Господи, неповинный я!.. Ой, да за что же вы?..
Рослый казак-атаманец ударил его коленом в грудь, кинул к яме. Тут только Подтелков узнал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из наиболее бесстрашных красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый светлоусый парень. Его подняли на ноги, но он упал опять; ползал в ногах казаков, прижимаясь спекшимися губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел задушенно и страшно: