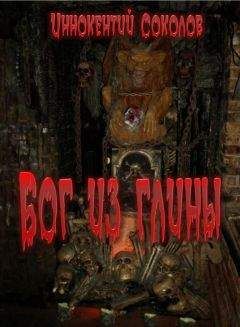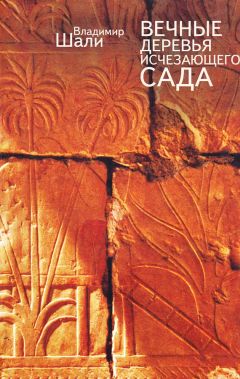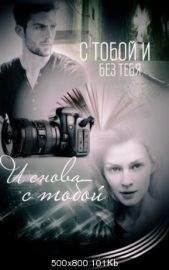Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
Недвижимо загораживают черным хребтом ночное небо молчащие горы. Невидимо простирается равнина. Уродливо искривленные тени чернеют, – быть может, ветлы на берегу. Даже темно лижущая отлогий песок густая вода не шепчет немолчным шепотом.
Не чудится рассвет.
Ветер*
Сожженный солнцем жгучий ветер вот уже пятый день упорно несется, такой же косматый, соленый, полный ослепительных брызг, и водяной пыли, и неумолкаемого шума, как и эти косматящиеся, мятущиеся под ним, полные своего шума и бурления волны, белые гребешки которых срывает и несет все в одну сторону, словно поземка тянется нескончаемо колеблющейся полосой.
А небо – сухое, ясное, неподвижное и до того равнодушно-высокое, что ни шум, ни потерявший голову, зарывающийся в волны ветер не достигают до него и ни малейшее белое пятнышко затерянного облачка не оскорбляет спокойно-равнодушной синевы.
И солнце сияет.
Пятый день…
Изжелта-мутный, подернутый сухой, мглистой пылью, которая тоже стоит пятый день над землей тускло и серо, ничего не выражая, смотрит вниз, на безумно разметавшееся море, рассыпанный по горе город.
Ни дымка, ни черточки. Только беспредельно-зловеще белое клокотание да изменчиво плывущие черно зияющие провалы.
К самой набережной жмутся, поднимаясь и опускаясь, черные суда, и мачты длинно качаются, вычерчивая на синеве, как тонкими карандашами, таинственно-незримые узоры.
Тяжело, приземисто-неуклюже качаются крепко пришвартованные пароходы.
Набережная как вымерла: ни разгрузки, ни нагрузки. Только пыль несется над мостовой, над складами, над штабелями железа, над черными грудами каменного угля, над огромными бунтами сложенного в мешках хлеба и безумно треплются края покрывающего брезента.
Во всех щелях, проходах, промежутках между стенами, зданиями, в веревках такелажа, вокруг качающихся мачт свистит и визжит на тысячу ладов, и все одним и тем же вкрадчиво-злобным, ищущим, вьющимся голосом, и нет ему исхода, и нет ему утоления, а вверху над проволоками телеграфа гудит ровно, уверенно, могуче, без помехи.
Когда от берега торопливо бегут смиряющиеся волны, медлительно, тяжко и длинно всплывает каменной влажной громадой набережная, выше и выше, и несокрушимо глядит на смирившееся, лижущее гранитную пяту море. Но уже с глухим ропотом, крутясь и заворачиваясь белыми гребешками, хлынули к берегу неугомонные, и, покачнувшись, во всю длину тонет каменная громада, и лишь гуляют и ссорятся над ней белоголовые волны. Так перемежаются победа и поражение с утра до вечера и с вечера до утра.
Далеко, где отлого золотится песок и схлынувшая волна оставляет узорчато-сквозные кружева пены, в неподвижном безделье чернеют опрокинутые рыбачьи лодки.
На набережной только один живой человек – на вышке спасательной станции. Одиноко, медлительно, терпеливо, мерно ходит темная фигура, и ровно, длинно, ни на секунду не замирая, струится нысоко над головой на гнущейся мачте флаг, как бы безнадежно говоря, что теперь нужнее всего и бесполезнее всего эта вышка, этот мерно ходящий часовой, эти белеющие, высоко поднятые на воздух, скрипуче покачивающиеся на кронштейнах спасательные лодки, ибо нет моря, а есть бесконечная злая зимняя степь, по которой безумно несутся клочьями белые метели, стелясь, сворачиваясь, путаясь, разрываясь и клубясь с бессильно-злобным воем и визгом, без конца и краю.
И гудит ветер, и мутно смотрит город, и шум, и стон, и отчаяние… Сияет солнце.
Пятый день.
А в городе, несмотря на то, что по улицам несется горячая, сухая пыль, скрипят и раскачиваются вывески, треплет платье и взъерошивает гривы и хвосты лошадям, жизнь идет, как всегда, – трещат по мостовой извозчики, блестят окна магазинов, в банки входят и выходят люди, стучат счетами в конторах, скучно сидят в канцеляриях, в отворенные двери церквей виден народ, синеватый кадильный дым, за чернеющими крохотными окнами острога угрюмая тоска и ожидание.
По вечерам по городу вспыхивает электричество, и стоит во тьме голубовато-дымчатая мгла, с которой странно связывается представление о какой-то особенной, внешне неуловимой жизни.
Из окон ресторанов, гостиниц, трактиров льется на мостовую свет, несутся звуки «машины», гундосо поют граммофоны, и в ярко-красных, с огромными полями шляпах проходят под окнами женщины с независимым видом и накрашенными лицами. Под горой около набережной, где день и ночь царит и покрывает все звуки неумолкаемый морской прибой, тоже трактиры, дешевые публичные дома, притоны.
В трактирах гомон, звон, потные, красные лица, засаленные локти на столах, дым, хоть коромысла вешай, гневные голоса, песни, ругань, смех. Это – для матросов, рыбаков, сутенеров, воров, контрабандистов, для публичных женщин, бродяг и всякого черного рабочего люда.
Множество народа сидит за грязными столиками, на засаленных подоконниках, толкутся посредине, входят, выходят.
Под тусклым, красным в дыму, коптящим огоньком висячей лампы, за столиком сидит плюгавенький кок с французского парохода, веснушчатый, с птичьим носом, облезающей головой, белобрысыми усиками и маленькими бегающими маслеными глазками. Он говорит по-французски, подмигивая, щурясь, задумчиво посасывающему, положив локти на стол, матерому, кряжистому русскому матросу дальнего плавания. Кок говорит о женщине вообще, разбирая ее, излагая свою теорию, говорит мерзко, наивно-цинично, а тот невозмутимо посасывает коротенькую трубку, глядя поверх носа на тлеющий табак, и не разберешь, слушает он или не слушает. Но, должно быть, слушает, потому что изредка вставляет короткие, обрубленные, русским говором французские фразы:
«C'est autre chose…» «La femme, ce n'est pas la vache»…[5]
За столиком сидит и слушает их третий, на которого они не обращают ни малейшего внимания, – слушает, навалившись всей шириной мощной груди на столик, не спуская с француза серых глаз, молодых, полных не то скрытого злобного задора, не то готовности в любой момент идти на опасность, в бурю, в драку, в поножовщину. И чувствуется – из железа эти отлившиеся под рубахой мускулы, эта спина, на которой хоть молоти, эта мощная, во всю ширину столика, навалившаяся грудь.
Его не знают ни кок, ни матрос. Он просто подошел к столику, сел, навалился грудью и стал слушать француза, не спуская глаз, не понимая ни слова.
– …Mais la femrne, quand elle….[6]
A трактир до самого потолка, черного и закоптелого, полон мятущегося в прогорклом дыму шума, говора без слов, песен, похожих на надрывающиеся волны, не то пьяного бормотания, не то предсмертного хрипа спившихся на грязном полу, и над всем царствуя, с высокой стойки равнодушно-привычным взглядом глядит трактирщик, как в пушкинской «Полтаве»: «Вожди спокойные глядят, предвидят гибель иль победу…» И «молодцы» в грязных рубахах, расторопные, всюду поспевающие, по одному его взгляду подают, принимают, дают сдачи, пьяных обсчитывают, выволакивают, нещадно, нечеловечески избивают буянов.
А когда утомленный говор и шум в изнеможении падает и низко, воровато ползет над самыми столиками, из-за стен доносятся другие голоса, грохот и как бы пальба тысячи орудий, и разрушение, и визг, и вой, и тонкий просящий плач, и при каждом грохочущем ударе стены трактира трясутся, и звенят бутылки и стаканы на столиках, и вздрагивают окна, и в груди у людей отдается смутным, угрожающим напоминанием.
Но снова человеческие голоса, такие бессильные и ничтожные, до самого черного потолка заполняют тесное, низкое помещение и душно мечутся, наглые, назойливые, среди красных, распаленных лиц, пьяно блестящих глаз, взмокших, растрепанных голов и уже забывают и перестают слышать грозную и темную силу за темными окнами, за вздрагивающими стенами.
Серые глаза все ближе через столик впиваются во француза, и вдруг, не спуская с него глаз, парень поднимается, – точно ахнув, опрокидывается стул. Теперь только видно, какого могучего, пропорционального сложения этот человек.
– Брешешь!.. Все брешешь, обезьянья харя!..
Тяжелый, просоленный, выдубленный морским солнцем, ветром кулак каменно опускается ла стол. Стаканы, рюмки, бутылки летят и раскатываются, точно торопясь очистить поле.
Матрос грузно поворачивается всей тушей и вынимает трубку изо рта.
Француз захлебывается.
– Н-ну?.!.
– Эта необразованный морда… на меня кляла клюпости…
Парень оборачивается к матросу, – ага, тебя, мол, сначала?.. С харей-то и потом… не уйдет.
Но уже, как гончие кабана, облепили по знаку хозяина молодцы парня, и он ворочается огромным клубком грязно-белых рубах. Они знают, с кем имеют дело, и из живого клубка слышится кряхтение и сопение напрягающихся людей.
– Ваняха, слышь… брось… ну, будет, ну!.. – уговаривают они, в то же время делая нечеловеческие усилия оттеснить его к дверям…