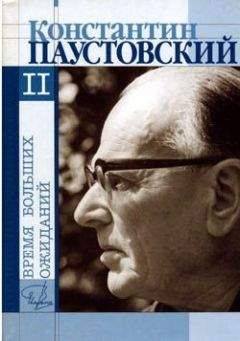Константин Паустовский - Том 1. Романтики. Блистающие облака
На следующий день Берг подбил Батурина пойти купаться. Батурин взглянул за окно и поежился: от Оки шел пар.
Купались они около разрушенного шлюза. В голых кустах пищали и прыгали озябшие, крошечные птицы.
Небо почернело, — того и гляди, пойдет снег. Батурин стремительно разделся и прыгнул в воду; у него перехватило дыхание, показалось, что он прыгнул в талый снег. Он поплыл к берегу, вскрикнул и выскочил. Растираясь мохнатым полотенцем, он понюхал свои руки — от них шел запах опавших листьев, ноябрьского дня. Он оделся, поднял воротник пальто; кепку он оставил дома. Волосы были холодные, и по ним было приятно проводить рукой.
Берг одевался не спеша, — купанье в этот хмурый ледяной день доставляло ему глубокое наслажденье. Он поглядел на Батурина и удовлетворенно ухмыльнулся.
— Вы помолодели на десять лет, — сказал он, танцуя на одной ноге и безуспешно стараясь попасть другой в штанину. — У вас даже появился румянец. Вы ленивы и нелюбопытны, до сих пор не могли раскачаться. Купайтесь каждый день и пишите, — два лучших занятия в мире.
— Я пишу.
— Прочтете?
— Да, вот только кончу.
— Благодарите Пиррисона. Если бы не эти поиски, вы бы закисли в своем скептицизме. Очень стало жить широко, молодо. Вот кончу роман, поеду в Одессу, там у меня есть одно дело. Зимой в Одессе норд выдувает из головы все лишнее и оставляет только самое необходимое, — отсюда свежесть. Пойду пешком в Люстдорф мимо заколоченных дач: пустыня, ветер, море ревет красота. Едемте. Есть такие старички-философы, мудрые старички, — с ними поговоришь: все просто, все хорошо. Так и одесская зима. Ходишь по пустым улицам и беседуешь с Анатолем Франсом.
— В Одессу я не поеду, — ответил Батурин. — У меня есть дело почище.
— Какое?
— Пойду в люди.
Обратно шли по тропе через заросли голых кустов. Ветер нес последние листья. Вышли в луга и увидели Нелидову, — она быстро шла к ним навстречу. Ветер обтягивал ее серый плащ, румяное от холода лицо было очень тонко, темные глаза смеялись. Она взяла Батурина под руку и сказала протяжно:
— Разве можно кидаться в ледяную воду? Эти берговские выдумки не доведут до добра.
Берг подставил ей щеку.
— Потрогайте, — горячая.
Нелидова неожиданно притянула Берга и поцеловала.
— Берг, какой вы смешной!
Берг покраснел. Шли домой долго, пошли кружным путем в обход озера. К щеке Нелидовой, около косо срезанных блестящих волос, прилип сырой лимонный лист вербы. Желтизна его была припудрена серебряной мельчайшей росой.
Около озера Берг остановился закурить и отстал. Маленькие волны плескались о низкий берег. Нелидова крепко сжала руку Батурина, заглянула в лицо — в глазах ее был глубокий нестерпимый блеск — и быстро сказала:
— Теперь-то вы поняли, почему я не могу бросить вас? Это началось у меня еще там, в Керчи, когда я потеряла браслет.
Батурин осторожно снял с ее щеки тонкий лист вербы.
— Мне надо было сказать вам это первому. Я, как всегда, опоздал.
Берг нарочно шел сзади и хрипло пел:
Прочь, тоска, уймись, кручинушка,
Аль тебя и водкой не зальешь!
В воздухе лениво кружился первый сухой снег. Пока они дошли до дому, земля побелела, и над снегом загорелся румяный рязанский закат.
Горящий спирт
Поздней осенью 1925 года норвежский грузовой пароход «Верхавен» сел на камни в горле Белого моря. Команда и капитан, не сообщив по радио об аварии и не приняв никаких мер к спасению парохода, съехали на берег. По международному морскому праву пароход, брошенный в таких условиях командой, поступает в собственность той страны, в водах которой он потерпел аварию.
«Верхавен» перешел в собственность Советского Союза, и капитан Кравченко получил предписание принять его, отремонтировать и вступить в командование.
Капитан сиял: помогли «пачкуны-голландцы», подкинули пароход. Глана капитан брал с собой заведовать пароходной канцелярией. Первым рейсом «Верхавен» должен был идти в Роттердам.
Жил капитан в Петровском парке в двух комнатах вместе с Гланом, Батуриным и Бергом.
Был январь. Над Москвой дымили морозы, закаты тонули в их косматом дыму.
В дощатые капитанские комнаты, как и в Пушкине, светили по ночам снега. Растолстевшая Миссури спала на столе, и многочисленные часы тикали в тишине, заполняя комнаты торопливым звоном. Уезжая по делам, капитан оставлял комнаты, Миссури, книги и часы Батурину и Бергу.
Звон часов вызывал у Берга и Батурина впечатление, что звенит зима. Снега, короткие дни и синие, какие-то елочные ночи были полны этого мелодичного звона. Он помогал писать, вызывал стеклянные сны — чистые и тонкие, разбивавшиеся при пробуждении на тысячи осколков, как бьется хрустальный стакан.
Год отшумел и созревал в Батурине, Берге, в Нелидовой, даже в капитане новыми бодрыми мыслями. Батурин застал однажды капитана за чтением Есенина. Капитан покраснел и пробормотал:
— Здорово пишет, стервец! Вот смотрите. — Он ткнул пальцем в раскрытую книгу:
Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон.
Батурин улыбнулся.
Дожидаясь назначения, капитан вообще пристрастился к книгам. Он зачитывался Алексеем Толстым и подолгу хохотал, лежа на диване, потом говорил в пространство:
— Дурак я, дурак. Всю жизнь проворонил; ни черта не читал.
Батурин замечал вскользь:
— Ведь это — лирика.
— Идите к свиньям, может быть, я сам лирик. Откуда вы знаете.
Когда назначение было получено, капитан устроил банкет. Февраль завалил Петровский парк высокими снегами. Голубые закаты медленно тлели над Ходынкой. Казалось, что весь день стоял над Москвой закат — так пасмурно и косо были освещены ее розовые и низкие дома.
Капитан накупил вина, фруктов, достал чистого спирта — варить пунш. К вечеру приехала Нелидова с Наташей, потом Симбирцев. Он постарел за этот год, в волосах прибавилось седины.
Когда сели за стол, капитан зажег пунш и потушил лампу. Синий пламень тускло перебегал по окнам, за ними мохнато стояла зима. Звенели часы. Капитан встал. Лицо его при свете горящего спирта казалось бледным и взволнованным. Он оглядел всех, остановился на Глане и сказал:
— Друзья! Я ненавижу всякие сентиментальности. Запомните это. Я смеялся над лирикой, над выдумками писателей, — все это вранье не давало никакой пищи моей коробке, — он показал на свою голову. — После всего, что произошло с нами, я несколько изменил свои мысли. Наша страна стремится к величайшей справедливости, в конечном счете к тому, чтобы жизнь для людей стала сплошным расцветом. Вы понимаете, конечно, расцвет всех его физических и духовных сил, расцвет культуры, вот этой самой поэзии, техники.
Я думаю, что придет время, когда вместо вшивых железных гитар, теперешних пароходов, по морям будут плавать пароходы из стекла, представьте, как это будет выглядеть в солнечный день: сам черт пустится в пляс.
Но не в этом деле. Время пачкунов и лодырей пройдет. Земля будет прокалена на хорошем огне, — тогда, вот в эту эпоху расцвета, придет ваше время, друзья. Вы думаете, что я хрипун, бурбон и ни хрена не понимаю. Это неверно! Я — капитан дальнего плавания, поэтому я не могу быть таким дураком, как это некоторым кажется. Я тоже любил женщин, я часами простаивал на палубе, боясь шелохнуться во время тропических закатов. Я знаю, что жизнь без книг, творчества, блестящих идей, любви — это вино без запаха, морская вода без соли. Вот! Вы поняли, к чему я гну?
Я гну к тому, что нечего лаяться, если в большой давке вам наступили на ногу. Я не умею, конечно, так, как Батурин или Берг, излагать свои мысли. Я хочу сказать, что вот я, старик, требую, чтобы вы жили так, будто на земле уже наступила эпоха расцвета. Поняли?
Вы думаете, что я не читал и не знаю стихов. Черта с два! Беранже написал в свое время:
…Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Не повторяйте этих плаксивых слов, — они недостойны современника Великой французской революции, они недостойны и нас, свидетелей величайших мировых потрясений. Я утверждаю, что мы нашли эту дорогу, и нечего насвистывать нам золотые сны.
Капитан медленно сел. Глан смотрел на него прищурившись, — этот человек впервые вышел из своих грубых и резко очерченных берегов.
— Да, — капитан снова встал. — Я забыл. Я предлагаю выпить за летчика Нелидова, которого я считаю человеком будущего, за всех, кто встретился на нашем пути — Зарембу, курдянку, Шевчука, даже за Фигатнера, за Абхазию и Батум с его проклятыми дождями. Сейчас мне, признаться, недостает этих дождей. Я предлагаю выпить и за тех людей, которых вы не знаете, за славных парней, моих товарищей, за моряков всех наций. Прежде всего за капитана Фрея, моего друга. Он один проводил пароходы в десять тысяч тонн через коралловый барьер. И за матроса Го Ю-ли, китайца, любившего больше всего на свете маленьких детей.