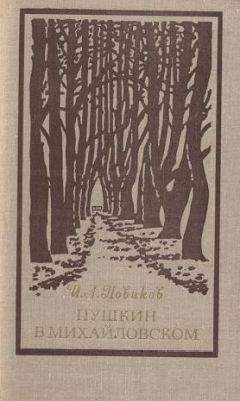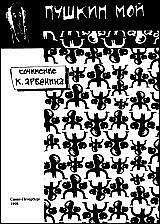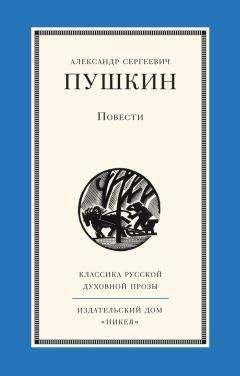Иван Новиков - Пушкин на юге
Да, для него вечер уже завершен. Он хочет уйти, поворачивается и видит Пульхерицу. Она глядит на него, на сей раз забыв об улыбке. Но она вся как улыбка, как роза в росе. Он делает движение, чтобы к ней подойти, но Варфоломей, отдохнувший, вернувшийся к трудной своей, лишь на минуту покинутой думе, останавливает его.
— Что беден и холост, это, то есть, мы переиначим, а князь — это оставим. Скажите, возможно? Я все… предпринять! В этих руках. — И он сжимает пустую пухлую горсть.
Пушкин глядит, наклоняясь, в небольшие его вопрошающие глазки и говорит — ничуть не озорно, а скорее с какою–то тихою грустью:
— Но ведь нужна, Егор Кириллович, и еще одна безделица: чтобы и она его полюбила.
— Вот в том–то вся и беда! — восклицает Варфоломей; эту последнюю фразу он уже хорошо выучил по–русски.
Пушкин идет от бабаки, но Пульхерица уже не одна, возле нее щебечет стайка подруг. Он к ним подошел, шутит, прощаясь, и на устах его девы уже опять порхает обычная милая улыбка.
Варфоломей глядит издали. Думы его выдает невольный вопрос:
— Да сам–то он кто?
— Вы о ком изволите говорить, Егор Кириллович? — подобострастно вопрошает случившийся поблизости кто–то из мелких чиновников.
— Я говорю о господине Пушкине. Ну кто ж он, скажите!
— Пушкин, Егор Кириллович, хоть и невольник, а вольная пташка.
— Пташка? Не понимаю.
— Пушкин — поэт.
— Вот в том–то вся и беда.
Танцы будут еще продолжаться. Варфоломей еще будет пить кофе и курить, размышляя, куконицы–мамаши и дальше не смогут остыть, и Пульхерица будет еще в танце порхать и улыбаться, но улыбка ее будет немножко печальней. Только этого никто не заметит. Пушкин ушел.
Ровные белые улицы. Снег перестал. Звезды зажглись над миром, над Кишиневом. Танцы у Варфоломея, а у Крупенского карты.
— Кучер живей!
Пушкин обратился с просьбою в Петербург о предоставлении ему отпуска. Ответ затягивался.
— Если меня в Петербург не отпустят, я от вас все равно куда–нибудь убегу.
— Не убежишь.
— Почему?
— А потому: обещал больше не бегать.
Тон у Ивана Никитича спокойный, простой. Не скажешь даже — уверенный, за показною уверенностью часто стоит именно что неуверенность, человек как бы сам себя подкрепляет, а когда говорят так естественно, как естественно дует ветер или идет дождь, что тут возразишь! Пушкин и не возражал.
— Тогда отпустите в Одессу!
В Одессу просился он уже не в первый раз, но Инзов не считал это удобным, во всяком случае пока нет из Петербурга ответа. Немудрено, что Пушкин скучал и время от времени устраивал себе развлечения. Такое очередное развлечение он позволил себе на одном из обедов у генерала Бологовского.
Генерал–майор Димитрий Николаевич Бологовский командовал второю бригадой дивизии, расположенной в Кишиневе. Он был лет на десять старше генерала Пущина, но по характеру своему казался моложе. Он любил выпить и поострить, про него ходило множество анекдотов, от которых он не особенно открещивался, а подвыпив, и сам любил кое–что о себе рассказать. Однако же всем было известно, что не следовало при нем и намекать на то, что он принимал участие в убийстве императора Павла. Он приподнял за волосы мертвую голову убитого и ударил ею о землю. «Вот тиран!» — сказал он и спокойно–брезгливо обтер об мундир свои пальцы. Ему было тогда всего лет двадцать пять, и хоть он и стоял в карауле в ту памятную ночь, одиннадцатого марта, но, наверное, был сильно выпивши — «для куражу».
Пушкин обедал у него всегда по воскресеньям. В двадцать третьем году одиннадцатое марта пришлось как раз в воскресенье, и Александр вспомнил памятную для хозяина дома годовщину. Было, как и всегда у Бологовского, шумно и весело. Вина было много, и Пушкин ему отдал изрядную дань. Он сидел рядом с Алексеевым.
— А что, Николай Степанович, — сказал он негромко, — как весело наш генерал поминает императора Павла.
— Пушкин, молчи, — отвечал Алексеев, — ты же знаешь…
— А что мне! — ответил Пушкин с задором. — Я знаю, а он еще лучше меня должен знать. — И, поднявшись с бокалом, громко провозгласил: — Димитрий Николаевич, ваше здоровье!
— А что? По какому же, собственно, поводу? — спросил генерал, недоумевая.
— А сегодня одиннадцатое марта! — ответил при воцарившемся вдруг общем молчании Пушкин.
По правде сказать, он и не собирался этого подчеркивать, полагая, что генерал и так догадается. Но Бологовский не догадался, спросил, а ежели спрашивают, надо ответить! Вышла большая неловкость, но все же скандала не произошло. Бологовский быстро нашелся и вышел из положения.
— А вы почему знаете? — обратился он к Пушкину. — Ведь и в самом деле сегодня день рождения моей племянницы Леночки.
И все стали поздравлять генерала. Кто догадался, а кто и от чистого сердца пил за здоровье неведомой девушки, проживавшей, по словам генерала, в Смоленске. Все встали из–за стола, а хозяин сел за шахматы, зная наперед, что проиграет.
— Говорят, ты бесился опять? — спросил Инзов на другой день после происшествия.
— Я чувствую склонность к истории, — отвечал Пушкин невинно, — и только дал точную справку.
К удивлению, Иван Никитич головы ему не «мылил». Он даже впал в небольшую задумчивость и, слегка побарабанив пальцами по столу, как бы сам для себя произнес:
— Каков бы он ни был, покойный монарх, а всякому человеку надлежит помирать собственной смертью.
Инзов высказал это в виде общей сентенции, но Пушкину невольно в эту минуту припомнилось, что говорили про этого человека, носившего всю жизнь псевдоним — «Инако зовут».
Вскоре пришел и ответ из Петербурга, адресованный Инзову: царь в отпуске Пушкину отказал. Пушкин ответил царю, выпустив на пасхальной неделе одну из птичек, живших у Инзова в клетках.
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Иван Никитич, которому Александр прочел эти стихи, был душевно растроган.
— Ну погоди, дай срок. Только без дела я тебя отпустить не могу. Поедешь лечиться на море.
Пушкин повеселел. У него забрезжили надежды перебраться в Одессу совсем. Он много работал, гулял. «Бахчисарайский фонтан» был закончен, начал «Онегина». Если в небольших по размеру стихотворениях он откликался тотчас на блеснувшую мысль, на взволновавшее чувство, то поэмы всегда долго вынашивались. Он должен был отойти, чтобы увидеть все в целом, постигнуть гармонию пропорций и дать всему точное место. Так он издали видел и обнимал единым глазом далекую семью снежных вершин; так, отъехав от города и обернувшись, схватывал общую его физиономию и соотношение отдельных частей.
Точно так было и с поэмами: Кавказ, екатеринославские разбойники, Бахчисарай — все это уже нашло свою форму, но цыганы еще искали себя, они как бы еще кочевали в творческих его раздумьях. «Онегин»… — уже одно то, что поэту понадобилась еще большая даль, чтобы увидеть свою петербургскую юность, предсказывало вещь и по размерам превосходящую прежние. Если в Вольтеровой «Девственнице» была двадцать одна песнь, то отчего бы не написать «поэму песен в двадцать пять»? А впрочем, это скорее роман, и действие в нем может нагнать самую жизнь, герой сделаться спутником жизни.
Пушкин снова переживал то совершенно особое чувство, которое сопутствует началу нового большого труда. Нечто подобное испытывает человек перед отправлением в далекое путешествие. Припасы в дорогу уложены, мешок с овсом привязан веревками позади экипажа. День начался раньше обычного, и он моложе, чем всегда, и будет расти у вас на глазах. Деревья проснулись, но еще умываются холодной росой. Немного еще — и солнце подаст им, дабы обсушиться, тончайшее полотенце лучей: их хватит на все и на всех. Самые звуки и то, как добегают они к вашему уху, — все молодое.
А между тем сила, готовность, приподнятость — как в дереве соки весною, а мысли и образы наливаются жизнью, как почки на ветке. Бывают минуты: кажется, брызнут все сразу. Но на то и человек, а не самое хотя бы великолепное дерево. Вы садитесь в повозку, и вы управляете ею. Каждый поворот дороги приносит новое видение, но глаза неизменно ваши, хотя и они становятся все острее и зорче. Они видят все, но выбирают то, что нужно. И из всех слагаемых главное, он же творец и организатор, — сам поэт.
Но и то, начальное, чувство — готовность брызнуть и процвести всему сразу, — и оно не пропадает, этим единством будет пронизана в конце концов и вся завершенная вещь. У нее будет свое дыхание, манера и краски, и автор будет глядеться в нее, как в воды озера, — того самого озера, которое сам окопал, обсадил, где плотину воздвиг и перекинул мостки. Забота и мысли, сосредоточенность, щедрость души, самозабвение в работе, — все это радость труда, рождающего новую живую жизнь!