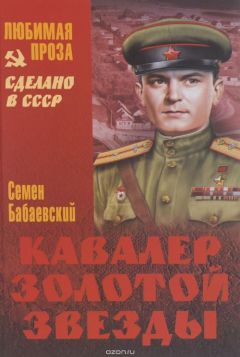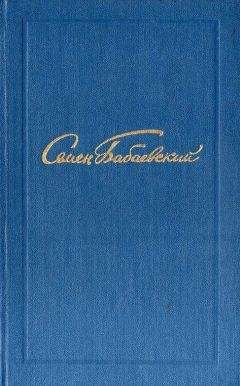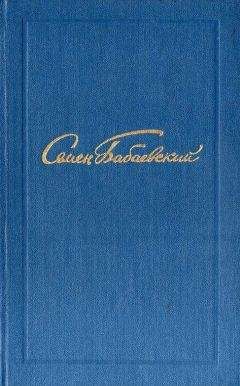Семен Бабаевский - Кавалер Золотой Звезды
— Истинно, истинно.
— Ну, Гордеич, рассказывай, как там у тебя в «Светлом пути».
— С жалобой к тебе, Федор Лукич…
— Что такое?
— Отрешили меня от председательства, — понурив голову, с дрожью в голосе проговорил Нарыжный.
— Вот это новость! Кто?
— Тутаринов…
— Так, так… — Федор Лукич погладил ладонью свою стриженую голову. — Значит, уже второй попался ему на зубы? А за что?
— Да без всяких причин, — все с той же дрожью в голосе отвечал Нарыжный. — Меня отстранил, а Глашу назначил…
— Кто такая эта Глаша?
— Несмашная… наша колхозница… Ябеда до ужасти.
— Так, так. Но все-таки за что же он тебя снял? Ведь была же какая-то причина?
— Федор Лукич, дело было так… — Нарыжный поднял голову, и в глазах его тревожно забегали чертики. — Тебе, как старому нашему руководителю, хочется пожаловаться… Так же дальше работать нельзя.
И Нарыжный по давно обдуманному плану изложил историю о запрятанном зерне так, как будто по недосмотру весовщика и кладовщика было засыпано в семенной фонд лишних сто двадцать центнеров яровой пшеницы. Затем все семенное зерно было заново перевешено и найденные излишки временно, под расписку, розданы колхозникам. (При этом Нарыжный вынул из кармана смятый лист бумаги с фамилиями и подписями.)
— Тут вся каша и заварилась, — заключил Нарыжный.
— Но хлеб сдали государству? — спросил Хохлаков.
— В ту же ночь…
— Так чего ж еще нужно было Тутаринову?
— А кто ж его знает? Прилетел на машине… По всему видно, личность моя ему не понравилась. — Нарыжный весь сжался, лицо его потемнело и постарело. — Работал, работал, старался, ночи недосыпал… Помнишь, Федор Лукич, как мы в войну? Последнее зерно везли… А теперь — не гожусь?
— За то, что мы в войну самоотверженно трудились, нам спасибо говорили бойцы. — Федор Лукич тяжело поднялся и, не глядя на Нарыжного, зло сказал: — Сколько я тебя, старого черта, учил — не шути с государством, а ты таким же дураком и остался… Я тебя берег, ценил, а Тутаринов из тебя, знаешь, что сделает… Весовщик виноват! По недосмотру! Знаю я тебя, и мне тут нечего чертовщину плести!
— Пособи, выручи, Федор Лукич, — взмолился Нарыжный, и в глазах его Хохлаков увидел слезы. — Десять же лет в руководстве…
— Некрасивая история, — как бы про себя сказал Хохлаков. — Но я похлопочу…
В кабинете у Кондратьева сидели вызванные на бюро Семен Гончаренко и Иван Родионов. Гремя палкой, Хохлаков, не взглянув на посетителей, прошел к столу и подал Кондратьеву руку.
— Здорово, Николай Петрович. У меня к тебе дело.
— Присаживайся. Вот кончу с товарищами, — сказал Кондратьев и обратился к Семену и Родионову:- Меня не уверяйте. Но на бюро вы должны сказать точно: будет готов канал к апрелю?
— Безусловно, — уверенно заявил Семен.
— Какие у вас расчеты? — спросил Кондратьев, и взгляд его внимательных глаз остановился на Родионове.
— Рассчитываем по людям, — ответил Родионов, тронув пальцем кончик уса. — Мы на канале, всего вторую неделю, а ты бы посмотрел, что там такое происходит! Выйдешь на гору, а перед тобой весь берег усыпан народом — копошатся истинно как муравьи! Трасса растянулась на полтора километра… Красиво!
— А кроме всего прочего, — добавил Семен, — у нас есть точный, по дням, план выемки грунта. Если мы все это выполним, — а мы выполним, — то вода пойдет по новому руслу еще раньше апреля.
— Ну и отлично! — сказал Кондратьев. — Я рад, что у вас такое настроение. Значит, готовьтесь к бюро. А ты, Родионов, как парторг строительства, дополнительно скажешь о коммунистах.
Семен и Родионов ушли.
На пороге появился управделами.
— Из Усть-Невинской приехал Еременко, — сказал он. — Вы его, кажется, вызывали?
— Давно приехал? Давай его сюда. — Кондратьев устало посмотрел на Хохлакова: — Федор, придется тебе еще подождать.
Вялой и неверной походкой вошел Еременко — парторг и временный председатель колхоза имени Ворошилова. Расслабленно, как больной, он приблизился к столу и, точно боясь свалиться, сжал сильными руками спинку стула.
— Садись, Еременко, — сухо пригласил Кондратьев. — Что такой болезненный?
— Прибыл по вашему вызову, — тихо проговорил Еременко, присаживаясь.
— Это я знаю. А без вызова и нос боишься показать?
— Все я признаю, — с волнением заговорил Еременко, — но у нас там такое, вы же знаете… Я все признаю… но глубокая ревизия… Приходится мне за чужие грехи расхлебываться… Артамашов кружил направо и налево, авторитет себе наживал, а я теперь отвечай…
— Твоих там грехов тоже немало…
— Клянусь вам, товарищ Кондратьев, я ничего лишнего из кладовой не брал. — Еременко поднялся, взглянув на Хохлакова, и снова сел. — Это Артамашов — и по запискам, и так, по-всякому…
— Дело, дорогой мой, не только в кладовой, — дружеским тоном заговорил Кондратьев. — Садись поближе и послушай, что я тебе скажу… Так вот. Клятва твоя ни к чему. Ты — партийный руководитель, и с тебя мы спросим за все, что делалось в колхозе. А ты как думал? Ты все сваливаешь на Артамашова и клянешься, что ни в чем не виноват. А вина твоя в том, что ты, как коммунист, не видел, что делалось вокруг тебя…
— Это я все признаю, — заговорил Еременко, не подымая головы, но чувствуя на себе взгляд Кондратьева. — Все я признаю, но как же можно было парторгу за всем уследить? Тут и политмассовая работа, и беседы по бригадам, и собрания… А сколько у нас хозяйственных отраслей! И чтобы во всем разобраться, надо сразу быть и агрономом, и зоотехником, и бухгалтером, и знать там разный учет по кладовой, по фермам… Куда ни сунься — и все надо знать.
— Вот именно — все надо знать… Ты в армии служил?
— Немного. Еще до войны.
— А знаешь ли ты, что такое в Советской Армии общевойсковой командир?
Еременко, не понимая, почему его об этом спрашивают, молчал.
— Так я тебе скажу, — продолжал Кондратьев. — Это такой командир, который отлично знает все рода войск — их оружие, тактику, взаимодействие в бою… Вот таким и должен быть партийный руководитель в колхозе. Ты даешь политическое направление людям всех отраслей колхозного производства, ты их учишь, как надо жить и работать. А если это так, то уж само собой понятно, что ты обязан, подобно общевойсковому командиру, знать все рода оружия и одинаково разбираться и в политическом воспитании людей, и в агротехнике, и в животноводстве, и в учете труда… А как же иначе? Иначе нельзя…
— Да, я это признаю…
— Мало признавать. — Кондратьев раскрыл записную книжку. — Когда будут готовы акты ревизионной комиссии?
— К тому понедельнику, раньше никак нельзя.
— Обсудите их на открытом партийном собрании. Доклад сделаешь сам. — Кондратьев с минуту что-то записывал. — Как ты думаешь, кого можно рекомендовать председателем колхоза?
— Подошел бы Атаманов.
— А коневодство? Что если остановиться на Никите Мальцеве? — Кондратьев сощурил глаза, как бы к чему-то прислушиваясь. — Как по-твоему?
— Молодой еще…
— А дельный?
— Это у него есть… Малый башковитый.
— Вот его и будем рекомендовать общему собранию. А то, что он еще молодой, бояться нечего… Люди быстро подрастают… Правильно я говорю, Федор Лукич? — Хохлаков неохотно кивнул головой, а Кондратьев поднялся и сказал: — Оставайся на бюро. Послушаешь отчет о строительстве канала. Когда вернешься домой, поговори с колхозниками о Мальцеве и готовьте собрание. От нас там будет Тутаринов.
— А как же со мной? — с грустью спросил Еременко.
— Пока будешь работать… Да не забудь, пришли ко мне Мальцева.
Еременко встал и такой же вялой, неверной походкой направился к двери. Кондратьев заметил в его глазах грустную тоску, подошел к окну, протер платком стекло и стал смотреть. У коновязи, в двадцати шагах от дома, дремала гнедая лошадь под седлом. Еременко отвязал повод, повернувшись лицом к окну, и Кондратьев снова увидел его печальные глаза.
«Нет, не годится, надо заменить», — подумал он и еще долго смотрел в окно, пока Еременко не увел на поводу коня…
А день стоял морозный, падал мелкий снег, на веточках акации тускло белела ледяная корка. Станица была пуста, люди редко проходили по улице. Тишина плыла над белыми крышами, и площадь с молодыми голыми деревьями казалась просторной и неуютной… От райкома через площадь шли, о чем-то разговаривая, Родионов и Семен — один в бурке, снизу запушенной снегом, другой в поношенной шинели, оба низкорослые, коренастые.
— И что за народ эти фронтовики! — подойдя к окну, сказал Хохлаков. — Все мне в них нравится, всем они молодцы ребята, а вот одну особенность я никак не могу разгадать.
— Что ж это за особенность, если не секрет? — спросил Кондратьев, садясь за стол.