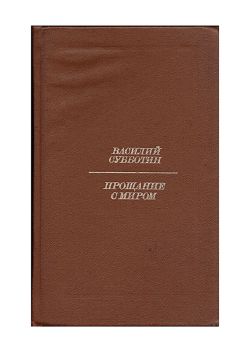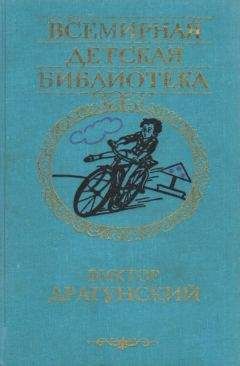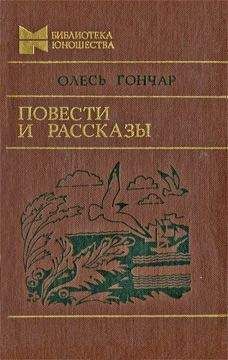Василий Субботин - Прощание с миром
После того как скошенное сено высыхало, его на волокушах начинали свозить в одно какое-нибудь место. Волокуши — это две вырубленные для этого, связанные между собой молодые березки. В них запрягали лошадь. Перетянутое веревкой, сухое сено свозили на открытое, хорошо проветриваемое место, на какой-нибудь пригорок… Самое что ни на есть опять же детское занятие — ходить за волокушами, подтаскивать высохшее сено к будущему стогу.
А еще веселее было, когда начинали метать сено. Кто-нибудь один снизу подавал вилами, а другой с граблями стоял наверху, на стогу, и укладывал, поднимаясь все выше и выше. У нас в семье наверх приходилось лезть всегда мне. Отец подавал вилами снизу, а и, стоя наверху с граблями, укладывал это. Трудно было только потом слезать с высоко выложенного стога, скатываться с него вниз.
И один из таких дней, когда убирали сено, я неожиданно на той же ляге нашей увидел журавля. Вечером, когда уже заходило солнце, отец мне показал его издали. Посреди заросшего меленьким осинником болотца было сооружено что-то вроде копны сена, и на ней стоял журавль. Может быть, потому, что все происходило в уже сгущающихся сумерках, журавль показался мне прямо-таки невероятно, неестественно огромным. Вытянув длинную шею, он стоял на своих длинных, тонких, как трости, ногах. Ноги и впрямь у него были на удивление длинные, тонкие, прямые. Он стоял на круглой, установленной на кочке копне, в гнезде своем, скосив голову куда-то в сторону, вбок…
Зрелище было необычайное. Я не в силах был оторвать от него глаз.
36
На той же дороге, что вела к бору, было у нас еще одно совсем уже маленькое поле. Вблизи дороги тут стояла береза, которую я почему-то очень запомнил. Она была кривая, склонившаяся низко над дорогой, и рогатая, стволы у нее невысоко от земли расходились в стороны, и хорошо было забраться туда, в это седло, и сидеть там, свесив ноги над дорогой, и тут мы с матерью жали. Делянка эта была только за год перед тем раскорчевана, и рожь, которая здесь росла, была очень высокая, густая. Мама учила меня жать. Сама она очень хорошо жала, и жала и косила. Во всем поселке не было никого, кто мог бы так хорошо жать и косить, как наша мама. Если она становилась в один ряд с мужиком, то за ней никто не мог угнаться. Так у нас говорили.
Мама показала мне, как и сколько надо захватывать, как подвести серп и как тянуть, как резать надо. Очень боялась, чтобы я не отрезал пальцы. Она показала мне, сколько я должен за этот день успеть сжать, чтобы мы могли пойти домой. Одним словом, дала мне «урок»…
Делянка у нас была хотя и маленькая, но спина у меня очень скоро заболела.
После того как я нажал целый сноп, мама стала учить меня вязать, свивать такой длинный жгут из той же ржи, перевясло у нас называется, и туго затягивать им сноп, так чтобы он потом не рассыпался, не развязался, подтыкать концы его, этого перевясла, под связанный, под спеленутый сноп.
Надо сказать, что это была очень трудная наука…
Я долго потом не мог ни согнуться, ни разогнуться.
37
В ту же осень, на том же самом поле, которое мы с матерью жали, я увидел корчевальную машину. Она стояла у дороги, по краю убранного и уже под озимь вспаханного к тому времени поля, возле окопанного и обрубленного со всех сторон гигантского пня. Пожалуй, всего больше это было похоже на барабан, на тот, что можно видеть теперь где-нибудь у дороги с намотанным на него белым, спрятанным в свинцовую трубку телефонным проводом. На барабан корчевальной машины был намотан толстый, сплетенный из многих нитей проволоки трос. Трос этот закреплялся, вернее было бы сказать, накидывался в виде петли на подкопанный уже, подрубленный со всех сторон, сосновый, а у пас чаще березовый пень. Два человека у меня на глазах принимались крутить привод, нечто вроде молотильного, шестеренки приводились в движение, и пень извлекался из земли, медленно, но верно выворачивался, вытягивался из земли, как вытягивается гнилой зуб.
Я помню, какое большое впечатление произвела на меня корчевальная машина… Появилась она у нас, как мне кажется, незадолго до колхоза, как видно, была куплена в складчину.
Это была прямо-таки огромная сила, очень большая помощь. Совсем не то что корчевать пни вручную. Чтобы вытащить такой пень вручную одному человеку, моему отцу например, потребовалось бы, по крайней мере, несколько дней.
38
Пастухом у нас в поселке был Митрофан, а я у него подпаском. Митрофан был тяжело больной, страдающий эпилепсией человек. Вместо слон из его полуоткрытого рта вырывалось какое-то не членораздельное, неразборчивое мычание. Лицо искажено было гримасой боли. Каждое слово доставалось ему с великим трудом.
Он был нашим соседом, жил с матерью, покорной и добрейшей старухой, и, кажется, я уже это заныл, с сестрой. Думаю, что он был еще не старым человеком, может быть, даже? молодым парнем, хотя и запомнился мне человеком в годах, настоящим мужиком. Думаю, что это болезнь его так исковеркала. По бороде его, по подбородку, вечно текла слюна.
Каждое утро, еще до рассвета, мать готовила мне пастушескую сумку, куда засовывала заткнутую тряпкой бутылку топленого молока и кусок хлеба.
Мы угоняли наше стадо, когда солнце еще только начинало вставать, и пасли целый день, гоняли далеко в лес, далеко за поселок гоняли, а когда траву выкашивали, то и на покосы, что были за поскотиной. Среди дня, когда коровы ложились отдыхать, мы с Митрофаном тоже устраивались где-нибудь в холодке, развязывали наши мешки и принимались за обед.
Особенно трудно было управляться с коровами в жару, в середине дня, когда небо раскалялось и начинали одолевать пауты. Коровы стервенели и лезли туда, где было поглуше, в самую тень, и невозможно было их никакими силами оттуда выдрать. Не помогал даже кнут Митрофана. Коровы только глубже залезали в самую что ни на есть глухую чащу леса, в холодок, где была тень. Митрофан в такие минуты терял самообладание, гонялся за коровами с кнутом, больно хлеща их по бокам. Кнут у Митрофана был длинный, метров на пять я думаю, и надолго оставлял на теле коровы вспухший темный след, заставлявший больно сжиматься сердца хозяек, доверивших нам своих коров.
Один раз, это было в полдень, с Митрофаном случился припадок, один из обычных его припадков. Его долго ломало и корежило, и он долго не приходил в себя, и я очень испугался, наблюдая это, и не знал, как ему помочь. Когда Митрофан стал приходить в себя, открыл глаза, он долго не понимал, что с ним и где он находится. Потом он тяжело поднялся и, все так же мыча и дико поводя глазами, бросился собирать стадо, сгонять разбредшихся далеко по лесу коров, пуще прежнего нахлестывая их своим кнутом…
Несколько молодых, годовалых телок удалось найти только на другой день.
39
Из лесу, скорее всего из поскотины той же, я принес однажды куст смородины, куст рябины выкопал и куст малины дикой и все это посадил перед окнами у нас, перед избой…
Одним словом, разбил такой садик для себя.
Сад мой просуществовал недолго. Утром однажды я проснулся и увидел, что все мои деревья, и смородина эта моя, и кусты малины, которую я только что посадил, все было вырвано, выворочено с корнем из земли и разбросано по сторонам. Я даже глазам своим не поверил, глядя в окно, настолько невероятным, неправдоподобным показалось мне все то, что я увидел. Я даже заплакал от горя, от обиды… Откуда мне было знать тогда, что деревня всегда неприязненно, неодобрительно относилась к любого рода опытам, экспериментам, никогда никому ничего подобного не прощала. Под окнами тут, перед домами, никогда ничего не росло, и в поселке у нас тоже никто ничего не сажал. Никому и в голову не приходило сажать что-либо… Что тебе, в лесу деревьев мало, нововведением решил заниматься, порядки новые насаждать! Садовод какой выискался!.. Так, видимо, рассуждала деревня тех дней.
Но я теперь все это могу объяснить, а тогда для меня все это было очень тяжело, очень горько. Я никак не мог всего этого объяснить и долго плакал от обиды.
40
Сразу за околицей, за воротами, что выводили из посёлка, был ток, или, как у нас говорили, гумно. Тут у нас молотили… Место веселое и хорошо отовсюду проветриваемое. Здесь стояла молотилка, которая и приводилась и движение конным приводом. В привод впрягали двух лошадей, по лошади с каждой стороны привода. Гонять лошадей в приводе было делом самых маленьких, тех, кто не мог выполнять другую, более сложную работу.
Целый день (встаешь, когда еще глаза слипаются) ходишь и ходишь за приводом, гоняешь лошадей по кругу, выбитому впряженной в привод лошадью, вслед ей, один круг за другим, пока не обмолотят весь хлеб, все скирды, тут же в стороне стоящие, не пропустят все это через молотилку. Молотилка ревет, давится снопами, особенно если попадется сырой, непросушенный сноп или когда стоящий за молотилкой, на подаче, машинист, опытный человек, знающий, как обращаться с молотилкой, не рассчитав, сунет больше, чем она способна переработать, пропустить через себя. Бабы, босые, с подоткнутыми подолами, с платками, надвинутыми на самые глаза, подтаскивают снопы поближе к молотилке, граблями убирают летящую из-под нее солому, подгребают зерно поближе к веялке, грохочущей тут же неподалеку. Столб пыли стоит и над молотилкой и над веялкой. А по краю гумна растет гора чистого, уже провеянного, отсортированного зерна…