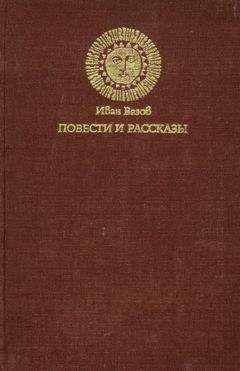Рустам Валеев - Родня
Все дальше, дальше остается позади плодосовхоз. Я молчу, молчит и отец. Голова у него опущена, спина согнулась. Бывало, как весело возвращались мы с ним домой, как неутомимо рассказывал он разные истории и раскатисто смеялся! Мы любили ходить пешком, и случалось — я уставал, а он готов был шагать, и шагать, и рассказывать удивительные истории, вдохновенный и обаятельный враль. И сегодня могло быть так: какая-нибудь необычайная история связала бы таинственную тележку с изящным, царственным кувшином, с таинственной всесильной травой, которую пили юные ханши и рожали сыновей. Эта глупая тележка, она была ему так же дорога, как царственный кувшин…
Возница то и дело грубо покрикивает на лошадь, как будто винит нас в том, что вот запаздывает на базар. Из-за этого возницы и мы поспешили, я даже не успел проститься с Геной и Аней. Вот с Аней надо было обязательно проститься и сказать ей хоть что-нибудь хорошее. И Гене стоило сказать: ладно, мол, чего дуешься, не такой уж я плохой человек, а Аня — вот увидишь — найдет себе замечательного парня! И Алчина, пожалуй, зря я дразнил. А Зейда… она сказала: «Не горюй». А я даже этих слов ей не сказал, да мне и нельзя было, это было бы глупо и жестоко говорить ей: «Не горюй». Как я звал ее! Мне что-то примечталось, но ведь у меня и в мыслях не было жениться на ней. И теперь даже не скажешь ей: «Не горюй!»
А вот отец, он же плут из плутов, и все знали, что он плохой печник и плут. Но почему никто никогда не обижался на него? Он и меня не обижал никогда, хотя и видел мою гордыню, мою заносчивость и грубость. Он умел быть великодушным, он не проявлял гордыни, он был щедр, делал свое дело широко, щедро, терпел убытки, кого-то обманывал, но он во всем был щедр, и его любили люди. Я вот посмеивался над ним: мол, если он не умеет и не любит делать печи, значит, он не знает того, что знаю я — радости умения, счастья мастерства; вдохновения.
Мы долго ехали молча, и вот уже показалась водонапорная башня, окраинные домики. И тут отец, чуть повернувшись ко мне, сказал:
— Слушай-ка. — Я не повернулся, я не смог бы посмотреть ему в глаза. — Слушай, — повторил он, и в голосе его уже искрилось что-то прежнее, — я вот думаю, что садовник Хабиб сделает вид, будто у него есть это удобрение.
Я молча кивнул.
— Можно поклясться, что садовник Хабиб скажет: «Есть у меня это удобрение!» Но я не поспешу отдать ему, подожду, пока он сам придет, тряся козлиной бородкой, а?
— Конечно, — сказал я, — конечно, конечно, он потрясет еще своей козлиной бородкой!
— Вот и я говорю! — сказал отец.
Какой же я глупый, если я думал, что моя глупость могла согнуть его. Но что меня утешит, когда я буду вспоминать Зейду? Когда я вспомню Аню? И даже этого толстокожего Алчина?
И все-таки отец простил меня, и у меня спокойнее на душе, и я думаю о будущих днях, о новых дорогах. Вот через многие годы я привычно вскидываю на плечо мешок с печным инструментом и трогаюсь в путь. Может, я уже не так подвижен, как прежде, слабее стал здоровьем, но я поднимаюсь и иду. Я теперь похож, наверно, на одного из первых поселенцев здешних мест. Может быть, он был сеятелем, или лошадником, или горшечником, или печником, или, скорее всего, он знал несколько ремесел: умел построить дом, подковать коня, сложить печь. Он был самый ценный человек в этом, тогда еще пустынном, крае, он был мастером, и у него была такая же веселая и щедрая душа, как у Купца Сабура.
Лето тихого города
Солнце надышало обильную густую жару, и дощатые тротуары трещат под ногами, будто ступаешь по сушняку, и в белом обжигающем мареве посвечивают меркнущей зеленью листья тополей. Желтые заборы сверкают из марева — в иной миг померещится вдруг, что они горят.
В такие полдни не торгуют даже мороженщицы, молчат часы на каланче: сторож, всегда аккуратно отбивающий время, не отваживается лезть на верхотуру. Я видел однажды, как соседская утка, отстав на пути к речке от стаи, лежала, утонув в дорожной пыли.
Зной, спокойствие.
Иногда над городом низко пролетают самолеты. И тогда пешеходы, кажется, идут быстрее, и сильнее шумят тополя, и веселее светят окна. Потом шум угасает, и тишина остается такой, будто ее не трогали, и только изредка проскачут по ухабистым мостовым, безалаберно тарахтя, древние полуторки кожевенного завода.
За рекой, где прежде начиналась степь, — завод, выпускающий изоляторы для высоковольтных линий. Говорят, что он станет предприятием союзного масштаба, но завод еще строится. Несколько цехов действуют, и я работаю в одном из них…
2«Поэма о море» шла всего один день. Мой брат Гумер возмущался по этому поводу и собирался идти к директору кинотеатра. Но что тому было делать, если у нас, во-первых, любят картины «переживательные», а во-вторых, летом вообще народ меньше ходит в кино из-за духоты в зале.
Духота и вправду была ядовитая. Мы вышли из темноты будто хмельные. Полная тетка жеманно говорила своему спутнику, что от духоты у нее кружится голова и что лучше бы они посидели дома. Гумер заторопился, толкнул тетку плечом и потащил меня из толпы. Он хорошо толкнул ее: вслед нам полетела брань.
Вечер, в первую минуту показавшийся прохладным, становился самим собою — теплым, пыльно-сухим.
Гумер взял меня за плечи, сильно и радостно прижал к себе.
— Ты послушай… поэма о море!
Мы шагали широко и дружно, словно шли к морю. Потом он остановился и немного отстранил меня. Глаза его огорченно заблестели:
— Ведь не поймут, ни черта не поймут обыватели!
— Да ладно, — сказал я, — подумаешь, огорчение!
— А жить среди таких — не огорчение? Да уеду я!
Из теплого и тесного переулка мы вышли на Набережную улицу, где стоял наш дом. Прохладно запахло тополевой горклой корой, речной сыростью и свежестью мокрых талов. Под обрывом позванивала на камешках речка.
Степь за речкой была темной; там еще не ходят поезда, там веками не паханная земля, в белых ковылях — гладкие, с серым отливом валуны, над ковылями — спокойные, с медленными крылами старые беркуты.
Гумер поедет в другую сторону, где гремят поезда, где через каждый километр — селения, а еще дальше — города, города.
Когда мы проходили мимо дома Шавкета-абы, нашего соседа, от калитки послышался тихий и сдержанный, но такой, что вот-вот зазвенит, голос:
— Гумер, погоди!
Это Дония, дочь Шавкета-абы. По мнению родителей, она обязательно должна выйти замуж за моего брата. Мой дед и мама также уверены в этом и дружелюбно называют Донию невесткой. Но Гумер скоро уезжает, и свадьба отложена.
Медленно, словно ему не хочется, Гумер идет к Донии. А я не иду, но и не ухожу.
— Ты иди, ты иди, — весело говорит Дония.
— Иди, — советует и Гумер, но говорит он так, что мне можно и не уходить. Но Дония не хочет, чтобы я оставался, — зачем же мне оставаться?
Я ухожу к себе во двор и слоняюсь в тесноте, натыкаясь то на велосипед, прислоненный к оградке садика, то на поленницу, то на какую-нибудь рухлядь.
Возле забора сидит мой дед и боязливо покашливает. Он сидит на широком, белом и гладком камне, который потом, когда дед умрет, ляжет на его могилу.
Дед мой жил при царе, он помнит, наверно, дутовцев и первых красногвардейцев; он, наверно, и сам воевал в красном отряде. У него шрам на щеке, идущий от левой верхней скулы вниз и прячущийся в бороде, — широкий, мертвенно-сизый, заволоченный тонкой дряблой пленкой кожи.
Когда дед, нечаянно или задумавшись о чем-то, подпирает ладонью щеку, его лицо резко искажается.
Дед — он не как все деды. Других хлебом не корми, а дай порассказать были и небылицы, но мой дед никогда ни о чем не рассказывает. А может быть, он в молодости гулял с какой-нибудь удалой шайкой и там, в степном разбойничьем просторе, нажил себе шрам?
Я слоняюсь по двору. Душно и томительно от запаха сирени. Белые пухлые грозди перевесились через изгородь, в середине они мглисто-белые, по краям расплывчато светлые, колеблющиеся — это словно запахи подымаются.
Посидев немного, дед уходит, долго шаркая по земле, потом по крыльцу, своими чувяками. Я еще сижу и стараюсь услышать шум тополей, но тополя не шевелятся. Их темные кроны по ту сторону забора спокойны.
Потом приходит Гумер, и в тот момент, когда он с легким скрипом открывает калитку, какой-то дурной петух поблизости, ошибившись, видно, во времени, пропевает: «Ку-ка-реку!»
— Гуляли? — спрашиваю я, поднимаясь навстречу Гумеру.
— Гуляли, — отвечает Гумер, голос у него равнодушный, совсем не заметно, чтобы он радовался.
Мне обидно, что он скрывает от меня свою радость, конечно же, радость — ведь он был с ней!
— Разговаривали, да? — спрашиваю я.
— Разговаривали, да, — скучно отвечает он. — Иди-ка спать, малец.
3Мы стоим у входа в летнее зданьице вокзала. Гумер с Донией гуляют вокруг станционного садика, но это не сердит меня. Они могут сегодня гулять сколько угодно, зато свадьбы не будет.