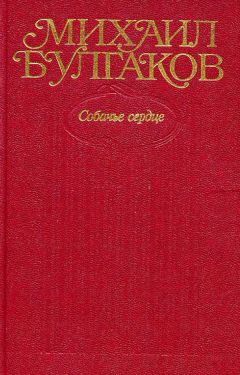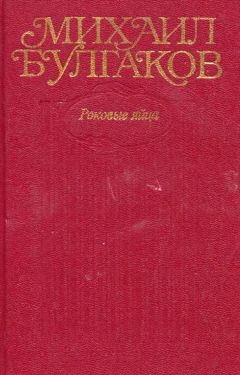Михаил Булгаков - Том 3. Собачье сердце. Повести, рассказы, фельетоны, очерки. Март 1925 — 1927
Лучше всего припаял брандмейстер нашу кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал, а по какому курсу — неизвестно! Говорили, видели будто бы, что Пожаров держал курс на станц. X. подмосковную. Поздравляем вас, братцы подмосковники, будете вы иметь!
Было жизни пожарской у нас ровно два месяца, и настала полная тишина с морозом на северном полюсе. Да будет ему земля пухом, но червонец пусть все-таки вернет под замок нашей несгораемой кассы взаимопомощи.
Фамилию мою Капорцев не ставьте, а прямо напечатайте подпись «Магнит», поязвительнее сделайте его.
Примечание:
Милый Магнит, язвительнее, чем Вы сами сделали вашего брандмейстера, я сделать не умею.
«Накануне», 6 апреля 1924 г.
Английские булавки
Принимать бокс за классовую борьбу — глупо. Еще глупей — принимать классовую борьбу за бокс.
2Не каждый не делающий своего дела, забастовщик.
3«Время — деньги». Принимай поэтому деньги вовремя.
4«Английская болезнь» не всегда консерватизм. Иногда это — просто рахит.
5Если ты бездейственен по натуре, не вступай в Совет Действия.
6Совет короля плюс Совет Действия не создают еще советской системы.
7Объявить забастовку незаконной — нельзя. Можно — просто объявить забастовку.
8Водить массы за нос — еще не значит быть вождем.
9Туманными фразами Лондона не удивишь: в нем и без того туманно.
10Не объясняй лондонского томским — тебе не поверят.
11Если в палате лордов темно — не удивляйся: «высший свет» — одно, а электрический свет — другое.
12Не суди забастовщиков за «нарушение тишины». Из-за них ведь затихла вся Англия.
13Конституция — как женщина. Ей не следует хвастать старостью.
14Присягая королю, можешь покраснеть. Присяга твоя от этого не станет красной присягой.
15Входя в Букингемский дворец, не говори: «мир хижинам». Это совершенно неуместно.
16На Бога надейся, а с епископом Кентерберийским не спорь.
17Не бойся политики. Она отнюдь не жена Поллита.
18Не говори «дело в шляпе», если знаешь, что дело в кепке.
19Если ты джентльмен, не входи в парламент в короне: головные уборы снимать обязательно.
20Снявши парик, по голове не плачут.
Ол. Райт
«Бузотер», 1926, № 11
Типаж
Мощный звонок перешиб «Шествие сардара».
— С вами говорит администратор ленинградских, московских и провинциальных театров,— сказал голос на фоне бубнов «Сардара»,— желательно переговорить с вами по делу.
— Приезжайте ко мне в два часа дня.
— А в час? — спросил далекий администратор.
— Ну… хорошо.
Администратор выключился, затем обогнал Америку и явился в час без четверти.
Гость одет был в пиджак, полосатые брюки, ботинки на пуговках. Гость был с лысиной, бородкой и печальными глазами.
— Садитесь, пожалуйста,— сказал я, изумляясь тому, что при госте нет портфеля.
Впрочем, отсутствие портфеля возмещалось наличием драгоценного камня в засаленном галстуке, по всем признакам — изумруда.
— Мерси,— сказал гость,— фамилия моя — Суворов-Таврический.
— Скажите,— воскликнул я, стараясь, чтобы изумление мое не приняло неприличных форм.— Без сомнения, Таврический — ваш псевдоним?
— Нет,— ответил гость,— как раз Таврический — фамилия, а псевдоним — Суворов. По отцу я — Таврический, а по матери — Котомкин.
— Таким образом, вы — Котомкин-Таврический.
— Да,— подтвердил гость.— Вам, может быть, моя фамилия неприятна?
— Помилуйте! — воскликнул я.
— О вас много и тепло говорил мне Бобров в Ленинграде. Вы знаете Боброва?
— К сожалению, нет… Но я много слышал о нем хорошего, о Боброве,— поспешил я утешить гостя.
Как известно, люди, говорящие о вас много и тепло, редки. Гораздо чаще встречаются такие, что говорят мало, но пакостно, поэтому я сразу взял Боброва на заметку.
— Вы Ленинград знаете? — спросил Суворов.
— Как же!..
— В том месте, где трамваи поворачивают с проспекта 25 Октября, направляясь к «Европейской» гостинице, и где стоит…
— Громаднейший бюст! — подтвердил я.
— Да. В один прекрасный день мая я сел в трамвай, имея при себе в кармане 1200 рублей казенных денег. Нужно вам заметить, что я влюблен в строительство социализма, и вид новых кубиков, которыми мостили, вызвал у меня взрыв восторга. Мысленно я видел великий город в садах и рабочих домах… Проехав четыре квартала, я вышел из трамвая, взялся за карман, зашатался и едва ли не упал…— Тут ужас выразился в мутных глазах Котомкина-Суворова: — Денег при мне не было.
— Вырезали?!
— Вырезали. В то время, когда я любовался кубиками. Я лишился службы в театре.
— А в каком вы служили?
Таврический махнул рукой:
— Мне больно говорить об этом. Три месяца я метался по Ленинграду и покрыл растрату. По счастью, друзья мои, Туррок и тот же Бобров, помогли мне, и я получил место.
— В другом театре?
— Нет, это был кооператив. Мне дали место кассира. Коротко скажу: не успел я прослужить и двух недель, как в том же трамвае и в том же месте у меня вырезали шестьсот семьдесят казенных рублей.
— Однако! — воскликнул я нервно.
— Но это не все,— сказал Суворов,— я переехал в Москву. Мне помогли, и вот я снова при должности.
— В кооперативе?
— Нет, вновь в театре. И по моей специальности, администратором. Я вздрагивал от радости, любуясь вашим городом, не совру вам: я плакал не раз в своем номере гостиницы, представляя себе столицу через пять лет…
— Позвольте,— перебил я,— почему плакали?
— Счастливыми слезами,— объяснил Суворов, потом вдруг из глаз его буквально хлынули слезы на пиджак. Он взревел и повалился на колени. Все в голове у меня перевернулось кверху ногами.
— Спасите меня! — каким-то паровозным голосом завыл Котомкин, и в соседней комнате залаяла собака.— В трамвае № 34 на третий день вырезали двести казенных рублей!
— Черт знает что такое…— сказал я тупо.
Произошла пауза, во время которой Котомкин поднялся и заломил руки.
— Ваш изумруд…— начал я.
— Взгляните на него на свет,— пригласил Котомкин.
Я глянул и перестал говорить об изумруде.
— Во всем доме…— начал я, но лицо Котомкина стало так ужасно, что я закончил так: — Во всем доме пятнадцать рублей, и из них десять я вручаю вам.
— Сто девяносто! Еще сто девяносто! — прошептал Суворов.— Вы представляете меня под судом?
Я подумал и ответил:
— Неясно.
В голове моей созрел план.
«Почему негодный Валя никогда не отзывается обо мне так хорошо, как Бобров? Дай-кось я ему сделаю пакость…»
И я сказал:
— У меня есть знакомый…
— О, да! — воскликнул Котомкин страстно.— О, да! Позвоните ему!
Я позвонил Вале и сказал, что к нему хочет приехать администратор по делу.
Котомкин же взял десять рублей и покинул меня.
Через час последовал звонок по телефону.
— Это свинство,— мрачно сказал Валя, кашляя.
— А вы кому-нибудь передали его?
— Юре,— ответил Валя.
И наконец вечером был звонок.
— Я хочу направить к вам…— сказала женщина-писательница Наталья Альбертовна,— администратора…
— А, не надо,— ответил я,— он был у меня.
— Что вы говорите?! Гм… Скажите, пожалуйста, кто такой Бобров?
И тут настал час отплатить Боброву за добро.
— Бобров? Сказать о нем, что он порядочный человек, это мало,— с чувством сказал я в трубку,— наипорядочнейший человек и великолепный знаток людей! Вот каков Бобров!
И, повесив трубку, я с тех пор ничего не слышал ни о Боброве, ни о несчастном, преследуемом судьбою Котомкине-Суворове.
Середина 1920-х гг.
«Литературная газета», 21 февраля 1973 г.
Я убил
Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:
— Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно двенадцать, значит, наступило второе число.
— Пожалуйста, пожалуйста,— ответил я.
Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрою «2» и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.