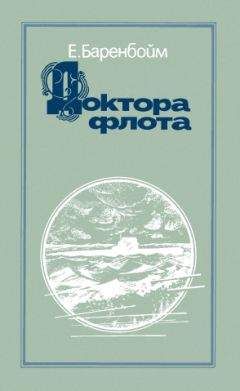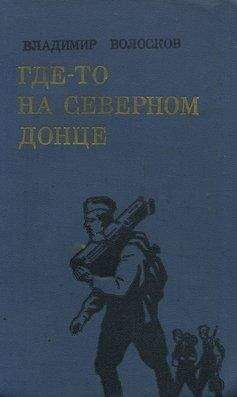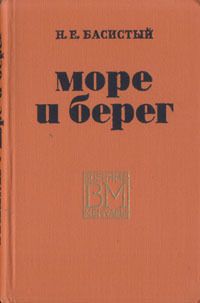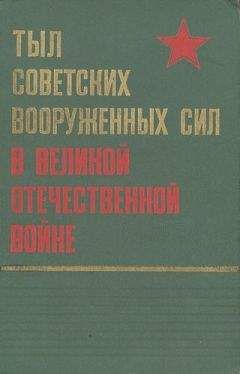Евсей Баренбойм - Крушение
— Не приду, — сказала Мария. — Не обижайся.
Так и закончилась эта встреча. Больше не виделись.
Первое время Марии очень не хватало девчонок, особенно Шуры и Фиры. Собралась в другом детском доме предложить свои услуги. Их в городе еще оставалось много. Да подумала: «С новыми девчонками начинать? Те уже были, как родные. И то даже попрощаться не забежали. А к этим привыкай с самого начала. Да и платят копейки. Нет, не пойду».
Мария Федоровна встрепенулась, посмотрела на висящие в простенке старые ходики. Было уже очень поздно, третий час ночи.
— Совсем вас заговорила, — сказала она, вставая и подходя к окну. — Это ж надо, как разболталась. Спасибо, что выслушали старуху, не перебивали. — Голос у нее сейчас был странно глухой, полный скрытого волнения, чувствовалось, что исповедь растревожила ее. — Говорила вам, ничего интересного. — Она испытующе посмотрела на меня.
— А как вы потом жили?
— А никак. — Мария Федоровна усмехнулась. — Как раньше жила, так и потом. Вернулись старые заказчицы. Мережка, пико из моды вышли, так я шить стала, красить научилась. На хлеб и сахар зарабатывала, а больше, что старухе надо?
— На работу не устраивались?
— Чего уж на старости лет менять свои привычки.
— Аркашкиной матери так и не рассказали про встречу с сыном?
— Рассказала, — вздохнула Мария Федоровна. — Года через два. Она ведь в сорок пятом похоронку получила, что сын в партизанах погиб. Не хотела я раньше раны бередить. А потом не удержалась, зашла. Знала бы, лучше б не заходила.
— Почему?
— Не поверила. Сказала: «Врете вы все. Сами тут при немцах неизвестно чем занимались, а сейчас хотите благородной выглядеть. Если б так было — почему до сих пор молчали?» Я ей не ответила ничего. Только заплакала и ушла. А через полтора года она преставилась.
— А пенсию вы получаете? — спросил я.
— Какая пенсия? Не положено мне, — сказала Мария Федоровна. — Я ведь всю жизнь частницей была. — Она отворила скрипучую дверцу шкафа, порылась в нем, достала длинную ржавую проволоку, всю унизанную пожелтевшими от времени квитанциями. — Вот смотрите, сколько лет налоги исправно платила. С самого двадцать второго года.
— А зачем храните?
— По привычке. Раньше фининспектора требовали. А когда пенсионного возраста достигла, сказали — можешь больше не платить.
— И совсем ничего не получаете? — допытывался я.
— Получаю, чтоб с голоду не сдохнуть. Пособие дают, как одинокой, пятнадцать рублей в месяц.
Я смотрел на нее со смешанным чувством жалости и удивления. В век научно-технической революции и потрясающих открытий передо мной сидело в некотором смысле ископаемое, последняя киевская частница. С ее ржавой проволокой и пожелтевшими квитанциями, с допотопной швейной машинкой «Зингер», с одинокой старостью.
— По-другому надо было жить, — будто угадывая мои мысли, сказала Мария Федоровна. — Дура была… А впрочем, казочку недавно вспомнила, что мать рассказывала. Будто что человеку на роду написано, то и будет. И не изменишь ту судьбу, как ни старайся. — Она вздохнула, зевнула, прикрыв рот рукой, и я заметил, что он еще полон зубов. — Да нечего говорить об этом. Давно пора помереть, только бог не берет к себе.
— Слышал я, что ваш дом собираются сносить? — осторожно спросил я.
— Собираются, — подтвердила Мария Федоровна. — Приходили из домоуправления. Переселим, говорят, тебя, Омельченко, в красивый дом в новом районе. Только я там с голоду помру. Заказчицы мои сплошь старухи, что рядом живут. Больные, еле ноги таскают. Кто из них на край света потащится? Здесь останусь, пускай вместе со мной сносят.
Сказала так спокойно, негромко, что я поверил — останется, не уйдет.
На следующий день я пошел в райисполком. Был разгар пышной киевской осени. Цвели настурции, падали на асфальт и с треском раскалывались каштаны, в многочисленных садах и скверах сладко пахли пионы. В ранний утренний час в исполкоме было тихо и малолюдно. От недавно вымытых полов веяло прохладой. За столом дежурный читал газету.
— Мне хотелось бы попасть на прием к председателю райисполкома, — сказал я дежурному.
— По какому вопросу? — поинтересовался он.
— Насчет переселения в новый дом гражданки Омельченко.
— А вы кто ей будете?
— Никто, — сказал я.
— А она кем вам приходится? Родственница?
— Никем, — вспылил я. — Просто старым человеком, попавшим в беду.
— В какую беду?
Как можно спокойнее я объяснил дежурному, что Омельченко не может переехать в новый дом, что ей следует подыскать комнату вблизи места, где она живет.
— Поймите, — говорил я, — это старая одинокая женщина, последняя в городе частница. Можно сказать, кусочек истории, анахронизм, музейная редкость. В войну она вела себя как истинная патриотка. Ей обязательно нужно помочь.
Дежурный смотрел на меня странным недоверчивым взглядом.
— А кем вы ей приходитесь?
Тут я не выдержал.
— Да никем! — закричал я. — По-вашему, человек просто так не может прийти просить за другого, если он не родственник и не знакомый?
— Почему не может? — наконец сказал дежурный. — Может.
Но к председателю меня все же не пустил, а направил к заместителю.
Молодой мужчина в белой сорочке с галстуком и в пиджаке, несмотря на жару, выслушал меня внимательно.
— Интересно, — проговорил он и на его круглом незагорелом лице появилась улыбка. — Последняя в городе частница? А вы кем ей приходитесь?
— Никем, — как можно спокойнее сказал я. — Просто по-человечески необходимо ей помочь.
Заместитель председателя задумался, побарабанил пальцами по столу.
— Ладно, товарищ. Этим вопросом займусь сам. Думаю решим, поможем. Найдем жилье по соседству. А вы свой адрес оставьте дежурному. Сообщим вам.
Перед отъездом из Киева я зашел к Омельченко проститься. Мария Федоровна сидела на скамеечке прямо у выходящей на улицу растворенной двери и вязала. На носу ее едва держались очки. В черных волосах даже на солнце было мало седины.
— Уезжаю сегодня, — сказал я. — Всего вам хорошего, Мария Федоровна.
Она перестала вязать, сняла очки, посмотрела на меня своими твердыми глазами, сообщила:
— Переселяют тут по соседству. Приходили из домоуправления. Заступился какой-то начальник.
Потом неожиданно протянула маленькую руку:
— Приедешь в Киев, могилку мою разыщи, цветочки положи. Обещаешь?
— Обещаю, — сказал я.
Надо было уходить. Я не понимал что, но что-то удерживало меня, мешало уйти. Последний раз я посмотрел на Марию Федоровну, на ее домик красного кирпича, на растворенную, с облупившейся краской дверь. За стеклом как всегда болталось на веревочке пожелтевшее объявление: «Мережка, пико, зигзаг». Я закурил и зашагал к Львовской площади.
Примечания
1
Каболки — нити, из которых свиваются пряди тросов.
2
Хертель — кавалерийское препятствие. Низенький заборчик с торчащими кверху метелками.