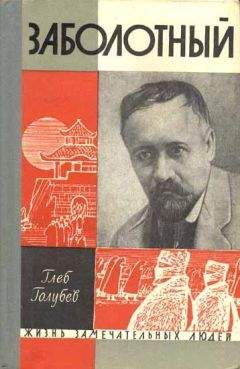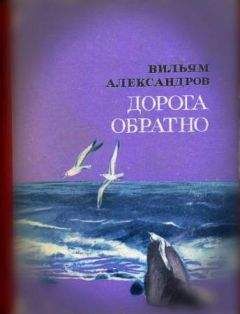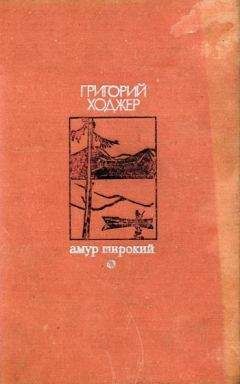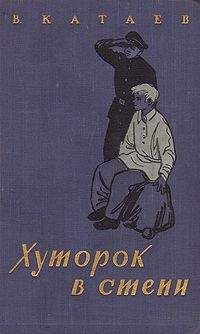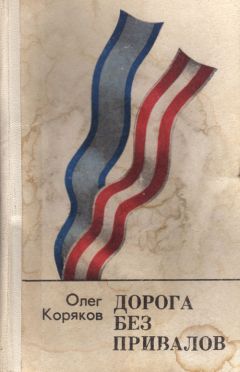Григорий Ходжер - Конец большого дома
— Мальчик, ты разве куришь? — спросил доктор, хотя прекрасно знал, что Ойта должен курить. — Смотри на меня, я старше твоего отца, но не курю. Нельзя курить, легкие потом будут болеть, кровью начнешь харкать.
Ойта изумленно посмотрел на доктора, так безбожно коверкавшего нанайские слова, и хотел было демонстративно, как подобает настоящему мужчине, охотнику, закурить, но напоминание о кровавом кашле до жути воскресило в его памяти страдальческое лицо корчившейся от кашля и боли бабушки, он побледнел и отвернулся от протянутой девушкой трубки.
Баоса с Питросом молча следили за этой немой сценой, укоризненно покачали головами, и Василий Ерофеевич прочитал в глазах Питроса: «Сам не мужчина, зачем же молодых охотников совращаешь?» А глаза Баосы были полны презрения. Василий Ерофеевич не обратил никакого внимания на стариков, он был сам удивлен своей неожиданной победой.
Ойта, опустив голову, сидел на краю нар, и никто из взрослых не догадывался, что творилось у него в душе; он знал, что с этого времени будет вечно презираем дедом, все его будут считать неполноценным человеком, но побороть себя Ойта не мог: перед глазами все продолжала корчиться и царапать скрюченными пальцами грудь бабушка, казалось, он даже слышал исступленный кашель умирающей.
Жена Питроса поставила низенький складной столик, разложила еду, подала медный кувшинчик разогретой водки и пригласила гостей.
— Извини меня, дянгиан, — сказал Василий Ерофеевич. — Я не могу пить, есть, вот так сыт. Пойду к Лэтэ Самару, он звал.
Питрос знал, если доктор скажет слово, то никогда не переступит через него, и он только ради приличия продолжал уговаривать его выпить чашечку водки.
— Ничего не сделаешь, — сдался он наконец. — Иди к Лэтэ, скажи ему, я простил его, он поймет. — Питрос понизил голос: — Ты шаман, видно. Мальчонка курил, а ты одним словом заставил отказаться от трубки. Зря это. Зря!
— Нет, не зря, дянгиан. Если хочешь, чтобы молодежь росла сильной, здоровой, не разрешай курить и водку пить. Это вредно. Очень вредно!
— Мы курили, пили — вот, дожили…
— Есть сильные и слабые люди, разные есть люди. Да, вы сказали, меня отвезут в Мэнгэн?
— Отвезем, отвезем, солнце к западу склонится, и сильная упряжка выедет из Болони.
Питрос сдержал свое слово. Когда Василий Ерофеевич вернулся в его фанзу в четвертом часу, на берегу стояли две готовые к отъезду упряжки: одна, нагруженная продовольствием, — Баосы, другая предназначалась доктору.
— Оставили… Полокто отказался вернуться, в тайге слово давал, сволочь, сына взамен отдал… Пиапон… тот не вернется, — говорил Баоса, когда Василий Ерофеевич входил в фанзу.
— А-а, доктор! Всех лечил? Все теперь здоровы? — начал расспрашивать Питрос. Он был сильно выпивши, стоял перед доктором покачиваясь, как дерево во время сильного ветра. Оставайся, Харапай, мы тебя кормить будем, поить будем. Оставайся!
— Так вы все у торговца в долгу останетесь, не прокормите меня, — пошутил Василий Ерофеевич.
— Найдем еду, только оставайся, без торговца мы прокормим. Ты хороший человек, ты доктор. Ты шаман.
— Нельзя, дянгиан, надо на месте быть, начальство будет сердиться.
Питрос с домочадцами, соседи, Лэтэ с детьми вышли провожать Василия Ерофеевича. Пьяный Питрос обнимал его и просил приехать летом. Молодой каюр отвязывал веревку, которая удерживала упряжку, собаки залаяли, вожак с нетерпением оглядывался на каюра, готовый по первому окрику устремиться вперед.
В это время прибежал с верхнего конца стойбища молодой охотник, ухватился за руку Питроса и закричал:
— Беда! Беда, дянгиан, озерские приехали, в Полокане люди вымерли, страшная болезнь!
— Кто вымер? Какая болезнь? — раздались голоса.
— Токто приехал, больного оспой привез!
— С ума он сошел?! Что он сделал?! Эй, люди, бегите из стойбища, оспу привезли!
Василий Ерофеевич не разобрал тревожного сообщения гонца, но общее волнение передалось и ему. На его вопросы наконец ответил Лэтэ:
— Оспа — страшная болезнь, озерские привезли умирающего.
Люди побежали на верхний конец стойбища посмотреть на прибывших. Василий Ерофеевич бежал к толпе, обгоняя женщин и пьяных мужчин. На берегу у самой крайней фанзы, там, где лед припаялся к прибрежным камням, стояли две оморочки на полозьях, запряженные в упряжки. Вокруг оморочек столпились болоньцы, одни пришли, гонимые любопытством, другие — состраданием, третьи — чтобы проявить свою власть и силу. Возле оморочек, опершись на палку с железным наконечником, стоял в решительной позе Токто; лицо его было бледное, усталое, но глаза горели странным голубым огнем. Перед Токто прыгал и размахивал руками шаман Хото Бельды.
— Ты, Токто, таежные законы нарушил! Тебя за это убить мало! — кричал он, разбрызгивая пену изо рта. — Все люди при этой страшной болезни убегают подальше от людей в тайгу. А ты, росомаха, ты нарушил этот закон!
Токто презрительно взглянул на него и проговорил хриплым голосом:
— Хото, я тебя больше шаманом не считаю, ты обманщик. Не ты ли предсказывал, что следующий мой ребенок выживет?
— Не о ребенке разговор! Уходи, сейчас же уходи из стойбища куда глаза глядят!
— Ребенок мой умер. Что теперь скажешь?
— Уходи, сейчас же уходи в тайгу!
— Я не зверь, я человек! — вдруг взорвался Токто. — Чего ты гонишь меня в тайгу? Я не лось, не медведь, я — человек! Понял, сучий сын? Большая беда пришла к нам, куда я должен идти, где должен искать тепло и поддержку! У зверей? В тайге? Нет, я человек и пришел к людям просить помощи.
— Ты смерть привез с собой, люди теперь должны покинуть стойбище и бежать в тайгу.
— Ты нехорошо поступил, Токто, — сказал кто-то в толпе. — Умирающего привез да грязную, только что родившую женщину… Это большой грех, беда может случиться…
Токто поднял обе руки и, точно собираясь кого-то ударить, размахнулся палкой.
— Люди! Сородичи! Неужели вы меня вновь гоните в тайгу, одного с умирающим братом… Я пришел к вам потому, что при людях легче пережить всякую боль, я… — Токто поперхнулся и добавил уже тише, опуская палку: — Что же, если гоните — уеду. А тебе, Хото, я больше не верю.
Токто окинул шамана полными злобы глазами и отвернулся. Краем глаза он видел бегущую к оморочке толпу. Он наклонился над Потой, поправил одеяло на нем, встретившись с его воспаленными глазами, быстро отвел взгляд. Тут кто-то встал рядом с ним, наклонился над Потой. Токто даже не удивился, увидев рядом с собой русского. Его сейчас, пожалуй, нельзя было удивить ничем на свете; после того, как его верные друзья, сородичи, прежде всегда готовые помочь в любой беде, решили выгнать его из стойбища безо всякого сочувствия, он уже не был способен удивляться чему-нибудь.
— Оспа, — сказал русский. — В другой оморочке тоже больные оспой?
Но ожидая ответа, он подошел к другой оморочке, осмотрел лица, руки Идари и Кэкэчэ, взглянул на новорожденного.
— Друзья, друзья, все отходите от оморочки! — сказал Василий Ерофеевич. — Подальше, подальше. А вы как себя чувствуете, не болеете? — спросил он Токто.
— Некогда болеть, — не очень дружелюбно ответил Токто.
Василий Ерофеевич подошел к Питросу.
— Вы самый уважаемый человек в Болони, вас все слушаются, скажите людям, чтобы никто из Болони не выезжал без вашего и моего разрешения. Я буду делать… — Василий Ерофеевич не нашел подходящего нанайского слова и сказал по-русски: — Буду делать прививки.
Пока Василий Ерофеевич договаривался с Питросом о фанзе, где можно было бы поместить больного, из толпы вышел Баоса и неторопливо подошел к оморочкам. Он отвернул одеяло Поты, пристально посмотрел в опухшее в язвах лицо, но, не узнав беглеца, подошел к другой оморочке.
— Отец! Отец! — простонала Идари, увидев наклонившегося над ней Баосу, и из открытых, расширившихся ее глаз потекли крупные слезы.
Баоса вздрогнул, услышав голос дочери, тугие желваки задвигались на челюстях, он что-то хотел сказать, но в это время раздался громкий, недовольный визг новорожденного.
— Сын родился, отец, — прошептала Идари. — А отец его умирает… все умирают…
— Это Пота? — только спросил Баоса.
— Да, это Пота, — ответил за Идари подошедший к ним Токто. — Говорят, ты искал его повсюду, чтобы убить, вот он и вернулся сам, привез сына, жену. Его сейчас легко убить, он шевельнуться даже не может…
— Ты кто такой? Почему так со мной разговариваешь? — закричал разгневанный Баоса.
— Я его названый старший брат, это я его скрывал.
Баоса встретился с полыхавшими голубым огнем глазами Токто и подумал: «Злой, как тигр».
— Если убьешь его — закопаю здесь, если оставишь в живых, то увезу в тайгу, — продолжал Токто.
— Сам сдохнет! — выкрикнул Баоса и зашагал в стойбище.