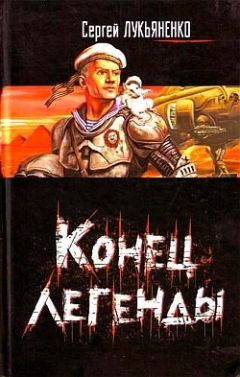Сергей Снегов - Река прокладывает русло
Крутилин схватил пальто, стремительно направился к выходу. Он яростно хлопнул дверью, по всем этажам пустого здания разнесся грохот. И хоть Кабакову и Савчуку было не до смеха, они расхохотались, глядя на трясущуюся, как наказанный щенок, дверь.
27
Его терзало бешенство. Он кипел и негодовал. Он все снова возобновлял в памяти происшедший разговор, не верил: разговор был немыслим, невозможен! Но он произошел, этот разговор, уйти было некуда. Крутилин стискивал руки в кулаки, нет, не словами нужно было завершать беседу!.. Он содрогался: ему, Крутилину, предложили уйти на пенсию, нагло бросили в лицо, что он помеха! И не демагог Лесков, даже тот на это не осмелился, не подыгрывающий ему Бадигия, а близкий товарищ, многолетний соратник Кабаков! У Крутилина было ощущение, словно все вещи перед глазами вдруг запрыгали, не за что ухватиться, мир полон пыли и грохота, все обваливается, как при землетрясении. Он закрывал глаза, настолько реальным было это сумасбродное движение вещей и лиц. Шофер с тревогой поглядывал на него: таким молчаливым, мрачным и подавленным он еще не видел его.
Дома Крутилина ждал ужин, он знал, что в большой комнате собралась вся семья — жена, две дочери с мужьями и сын, горный инженер, работавший на одной из местных шахт. Это был твердо заведенный порядок: внуков укладывали спать, а взрослые ожидали главу семьи, не начиная ужина. Если Крутилин не мог явиться в обычное время, он предупреждал по телефону, что опоздает, и ужинал один. Проходя мимо столовой он вспомнил, что в этот вечер домой не позвонил, нужно бы хоть сейчас крикнуть, чтоб его не ждали. Но он, опустив голову, торопливо прошел мимо двери. Ему никого не хотелось видеть.
Крутилин прошел в свою рабочую комнату, самую маленькую комнатушку большой квартиры. Она предназначалась для домработницы, но, уютная и светлая, понравилась хозяину. Здесь стоял небольшой стол, этажерка с книгами, диван и кресло.
Крутилин, не раздеваясь, кинулся в кресло, он глядел в темное окно, прислушивался к голосам, звучавшим в мозгу. Голоса распадались, догоняли друг друга, словно живые существа. Спор продолжайся, шла битва мыслей, она не была менее ожесточенной оттого, что ее вели не кулаками. У Крутилина дрожали ноги, как после бега: ему было тяжко от этой битвы, тяжелее, чем от разговора с Кабаковым, чем от тех пристрастных и лживых (это по-прежнему вне сомнения) выступлений на собрании. Крутилин горько усмехнулся — нет, не везет ему, другим легче. У других инфаркты, инсульты, гипертонии, всякие там жабы и раки. Им лучше. Им проще. Вот прийти бы после такого собрания или после такой беседы — и тут же хлоп! Со всех бы сторон врачи, сиделки, пузырьки, клистиры, валидол, нитроглицерин, а внутри — сердце, печень — все жжет, все болит, есть еще смысл в существовании — побороть болезнь! А куда ему, Крутилину, уйти от дум? Сроду не было у него самой завалящей болезни, жизнь бушует в нем, как брага в бочке, не устроить ему бегства от самого себя! Он вынул из тумбочки бутылку водки и стакан, он часто теперь пил в одиночестве, это стало уже привычкой. Он облегченно вздохнул: три полных бутылки стояло в тумбочке. Ну и напьется же он сегодня — до белых слонов и зеленых Лесковых, черт бы их всех побрал! Крутилин налил стакан и задумался, рука сжимала бутылку, тихо покачивала ее. Более пьянящее, чем алкоголь, мучительное и острое зелье — воспоминания прошлых лет — заполонило его, притупило лезвия беспощадных мыслей.
Крутилин видел себя мальчишкой, в рваной рубашке навыпуск, белой от пота; пот лился по всему телу, горячий, как кровь; он был солонее крови. Мальчишка орудовал ломиком у печи, старые рабочие хлопали его по плечу: «Молодец, Тимоша, лет через десять печевым станешь!» Он замирал от гордости и страха, он не верил в такое возвышение. И точно, не стал он печевым — грянула революция, ломик пришлось сменить на винтовку, печь — на коня. Через три года он возвратился на свой завод, к своей печи. Не было ни завода, ни печи, все лежало в развалинах. Он плакал, не стыдясь своих молодых горьких слез, ему казалось, что лучшее в жизни разрушено, жизни больше не будет. Нет, жизнь только начиналась, самый пророческий взгляд не сумел бы тогда разглядеть высоту, до которой она доплеснет. И вот прыгнули в неповторимый двадцать девятый. Словно гроза пронеслась над замершими от зноя полями, кругом все кинулось в рост, гомонило, звенело, ломалось, становилось другим — история перешла от шажка к бегу. Он тоже торопился, он бежал, он хотел быть впереди. «Знатный бригадир Тимофей Крутилин» — иначе его и не называли в газетах. И на новом заводе — совсем он не походил на тот старый, дедовский, которого уже не было, — бригадир Крутилин, лихо плюнув на кожаные рукавицы, загнал в летку ломик — «взял печь на ломок» — и пошел по старому обычаю три дня ее обмывать. Он не выдержал священных трех дней, он ломал все обычаи: пили только сутки, на вторые печь выдала первый металл. И снова газеты кричали: это было не его достижение — успех всей страны!
Вскоре Крутилин появился в новом качестве — студентом института; он знал уже: не печевым быть ему, а инженером. Он кинулся штурмовать новую твердыню, после возведения завода море было ему по колено. Оно было глубоко и бурно, это море учения, каждая сессия налетала, как ураган, он тонул в зачетах, захлебывался в конспектах, глотал страницы книг, как соленую воду, до одури и головокружения. Нет, не было блеска в его тяжком четырехлетнем плавании по волнам науки, сколько раз он в отчаянии кричал себе: «Да брось эту муку, живут же люди без диплома!» Он не бросил, он проплыл до конца — рядом с ним выгребал Кабаков, такой же рабочий паренек, как и он, еще хуже подготовленный. Он не мог уступить Кабакову, тянулся за ним, отставал и догонял — вытянул все же. Так они вместе шли с тех пор: Кабаков книжки писал, инспектировал строительства, командовал строителями; он, Крутилин, строил и пускал, снова строил, снова пускал, строил все лучше, пускал все быстрее. О Кабакове говорили специалисты, о Крутилине кричало радио, шумели газеты, докладывали лекторы… Кто из них был нужнее стране? Пусть — он не считается заслугами — оба они были нужны. Разве тот же Кабаков не писал о «методе Крутилина», о «показателях Крутилина»? «Наивысшие в истории металлургии результаты» — так это тогда формулировалось! Теперь формулируется по-другому: «Персональная пенсия в уважение старых заслуг». Нет, врешь, до пенсии далеко, надо разобраться, он еще Крутилин — директор передового в стране завода! Да, конечно, он Крутилин и завод его передовой, только тот ли он Крутилин, что был прежде, и завод его тот ли? Завод его тот же, и показатели у завода лучше, чем были, о них не кричат, как раньше, все стало поскромнее, но лучше они, это ведь так? Надо и тут разобраться, в самом деле, почему же не кричат? Может, лучшее — этого теперь уже мало, поэтому и молчат, хвалиться особенно нечем? И сам он другой, это точно, не тот теперь. Крутилин! Тот ночевал в цехе, знал каждого рабочего, в кабинете у него даже телефоны не звонили: к чему, начальник на объекте. Ему издали улыбались, на разносы не обижались, еще грозили другим: «Вот к Крутилину пойду, он тебе покажет!» И ходили, ловили на улице, дома, за горло хватали, выбивали материалы, квартиры, путевки, чуть ли не в свои семейные неурядицы тащили. Соснуть не отпускали, жить не давали — так он был всем необходим. Это и была жизнь, подлинный расцвет. Не было у него времени лучше, им, Крутилиным, гордились, он сам собой гордился. Нет, постой, постой, как же случилось, что он стал другим? А вот так и случилось: себя не понимал. Он жил, лучшего и не надо было, а ему казалось: временные трудности, а не жизнь — была такая удобная формулировочка. Он ожидал, когда все утихомирится, устроится, можно будет и поспать вволю и книжки почитать, годами он их не читал. Прав Кабаков, спорить нельзя: он мечтал отдохнуть на достигнутом. И вот пришел этот мучительный, дремотный, беспокойный покой: завод шел, все устоялось, можно было и в кабинете запереться, и неделями в цех не выходить, и спать вволю. Жизнь дошла до завершения, он пожинает ее плоды, наконец-то живет спокойно, на вершине всех благ… Такой ли она ему мечталась? И рюмочка, всегда она была, из рюмочки стакан вырос, стакан бутылкой обернулся — уже от этой желанной и нудной жизни насильно отрываться приходилось, забывать о ней в угарном тумане. А где уважение окружающих, где любовь рабочих? Где чувство того, что без тебя другие не могут обойтись, сладостное чувство собственной необходимости? Могут без него теперь, могут, уже не бегут к нему навстречу, стараются мимо прошмыгнуть, как бы на глаза грозному директору не попасться. А раз он не нужен, следующий шаг — пенсия, совсем уходить надо, пока не выгнали. Чем же неправ Кабаков? И не так уж далек этот час. Лесков крикнул: «Крутилину плевать на технический прогресс!» И все зашумели: правильно, имеется недооценка, нужно перестраиваться. А он тут одно увидел — подкоп под руководство. Не подкоп, а линия, новый этап развития. Проморгал он новый этап в своей кабинетной дреме! На пенсию он добровольно не уйдет, — значит выгонят его с позором, точь-в-точь по его, Григория, прописи.