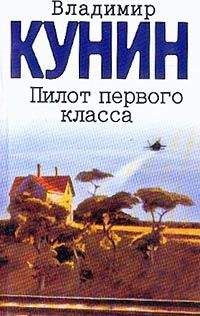Римма Коваленко - Конвейер
— Знаю. Она писала и об этом. Я вам, пожалуй, дам прочитать ее письмо.
— Не надо, — замотала головой Соня, — она наверняка написала правду. Но я эту правду и без письма знаю.
И тогда Румянцева, удивленная ее неуступчивостью, спросила:
— Сколько вам лет?
— Двадцать три, — ответила Соня.
— Только молодостью можно объяснить ваше упорство. Но вы должны понять, что у вас никто не отбирает сына. А мальчик вырастет и не простит вам сегодняшнего упрямства. У него не будет опыта ваших страданий и обид, он просто скажет: у меня был на свете еще один родной человек, который меня любил, а ты решила, что он мне не нужен.
— Он не будет об этом жалеть, — ответила Соня, — он будет со мной заодно.
— А себя вы не боитесь? — Румянцева привыкла убеждать других и сейчас была расстроена, что ее слова на Соню не действуют. — Вы не вечно будете молоды. Придет час, и самое горькое чувство посетит вас — раскаяние.
— Я все отдам сыну, и мне не в чем будет раскаиваться. Он не совсем обыкновенный ребенок. Я водила его в музыкальную школу, у него редкий слух. Через год его примут в подготовительную группу. — Соня подняла лицо, волнение прошло, она уже ничего не боялась.
И тогда Румянцева нанесла удар, которого Соня не ждала.
— Ну что ж, — вздохнула она, — пусть вас и мать Юры Авдеева рассудят люди. Мы подготовим письмо к печати и попросим читателей высказать свое мнение. Фамилии будут изменены, так что останется только сам вопрос, который требует ответа.
— Какого ответа? — Соня перепугалась, что ее жизнь будут судить незнакомые люди. — Я родила ребенка, которого никто не ждал, который никому не был нужен. Если бы он не родился, никто бы и знать не знал, что он мог быть. Почему же сейчас он стал не ребенком, а вопросом, который надо решать людям, да еще через газету?
— Ваш сын, — ответила Румянцева, — сейчас ребенок, но он вырастет, пойдет в школу, его будут учить грамоте, разным наукам. Но еще раньше, с первых дней жизни, сердце человека обучается доброте, жалости, состраданию. Нельзя, чтобы человек рос сердечным невеждой. Вы, Соня, как мне кажется, этому обучить своего мальчика не сможете.
Соня сдалась:
— Вы так со мной сурово говорите, а может, я сама в детстве этому не научилась?
— Все может быть. — Румянцева поднялась с дивана. — Но нельзя свое душевное невежество возводить в принцип. Я дам вам адрес, сходите к своей свекрови, постарайтесь вдвоем найти ответ на свой вопрос. Зовут ее Галина Андреевна.
— Я помню, — ответила Соня, — я не забыла.
И вот она шла по осенним улицам, засунув руки в карманы плаща. Со школьной скамьи попала она во взрослую жизнь, хотела быть в этой жизни сильной и независимой, но не дают. Не видят в ней ровню, такого же взрослого человека, как сами. У Соловьихи в глазах забота и материнская обида на нее; Багдасарян разлетелся — одинокая, покинутая, осчастливлю; мать Юры приехала замаливать свои грехи. И никто из них не знает, что у нее своя, только ей принадлежащая жизнь. Если она наперекор всему смогла родить Прошку, то уж теперь одолеет все. Эта женщина из отдела писем все правильно говорила, у нее такая работа. Человек должен быть добрым, испытывать жалость и сострадание. Кто же возражает? Юрина мать тоже была доброй. Хотела добра своему сыну. И ей хотела добра. Деньги дала, слова сочувственные говорила. Теперь тоже хочет быть доброй, внука любить, помогать ему. В газету пожаловалась, что не дают ей творить добро. Сын погиб. Но у Сони муж не погибал, мужа у нее не было. Юра совсем не Прошкин отец, он просто Юра. «Наш Юра, наш Юра… Девочки, вы помните два года назад в десятом классе был вот этот Юра Авдеев?» Он тогда пришел на новогодний вечер и танцевал с ней. А еще потом они ходили по зимним улицам, скрипел под ногами снег, мерзли щеки и руки. Юра говорил: «Поедем в какой-нибудь областной центр, поступим в институт, станем самостоятельными, поженимся, здесь нам не дадут». Не дали. Она сказала Юре по телефону, что у них будет ребенок, а он спросил: «Какой?» А его мать плакала и спрашивала: «Как ты, большая девочка, не подумала о том, что у Юры нет ни образования, ни профессии?» Тот Юра не мог умереть. Погиб кто-то другой. А Юра, с которым она танцевала на школьном вечере, уехал. Она позвонила по телефону, и ей ответили, что он уехал. Он просто уехал навсегда.
Соня остановилась: заплакать бы, все встанет тогда на свои места. Поверить, что Юра, который бросил ее с нерожденным ребенком, — это он, Юра, во всем виноват; заплакать по себе, по нему, и тогда можно будет сказать его матери: «Что вспоминать! Давайте жить по-человечески, пока живы». Но слез не было. Неожиданно вспомнилась маленькая, похожая на колобок врачиха: «Сядь, дурочка, хочу с тобой поговорить. Ты сколько собираешься жить на свете?» Она хотела жить долго и хорошо. И она живет хорошо. У нее сын. Она учится в институте. Она работает на конвейере, собирает высокой точности блоки. Она живет хорошо, а маленькая, с золотыми волосами под белым колпачим врачиха этого не знает. Она не ищет Соню, не спорит с матерью Юры: это не вы, а я бабушка Прохора. Не жалуется в редакцию: это моя, моя заслуга, что мальчик родился, его бы не было, если бы не я. А мать, вот эта Соня, даже не показала его мне, не привела, когда он научился ходить. Схватила моего мальчика, как только он родился, и присвоила!
Квартира, в которой остановилась Юрина мать, была в новом доме, на пятом этаже. В подъезде был лифт, но Соня пошла по лестнице пешком, оттягивая минуту встречи. Дверь открыл небритый старик в пижаме, с женским теплым платком на плечах.
— Галину Андреевну? Ее нет. А вы Соня?
Он пригласил ее войти. Покашливая, закрыл за нею дверь, извинился:
— Я болен. На бюллетене. Так что, с вашего позволения, лягу, а вы сядьте возле меня.
Соня огляделась: вся стена в комнате в книгах, мебель невыразительная, но удобная. Возле широкой тахты, на которой лежал старик, на полу и стульях — раскрытые книги, исписанные листы.
— Я для окружающих безопасен, — сказал хозяин, — астма. С детства. А на фронте ни одного приступа. Такие вот загадки медицины и жизни. Значит, вы Соня. Работаете на заводе, на конвейере. Молодая, независимая женщина.
Мужчина закашлялся, лицо посинело, глаза налились слезами. Соня в растерянности поднялась, не зная, чем ему помочь.
Когда приступ прошел, старик попросил:
— Если не трудно, поднимите мне подушку повыше и садитесь.
Он глядел на нее внимательно, рассматривал. Соне было не по себе под его взглядом.
— Галина Андреевна скоро придет? — спросила она.
— Она не придет, — ответил мужчина, — она уехала. Оставила письмо и уехала.
— Мне письмо?
— Вам, Соня. Только я вам его не отдам. Полежал, поболел, подумал и решил, что письмо останется у меня. Галине Андреевне я родной брат, она меня за сокрытие данного документа к ответственности привлекать не будет, а с вами я справлюсь.
— Странно. — Соня пожала плечами. Старика она не боялась. — Очень странно вы говорите. Я была в редакции. Там тоже письмо от Галины Андреевны.
— Когда человек в отчаянии, Соня, он плачет, пишет письма, места себе не находит. Вы молоды, вы этого еще не знаете. — Он подтянул к себе стул, снял со спинки салфетку, застелил сиденье. — На кухне в синем байковом одеяле — кастрюля с голубцами, в термосе — бульон. Несите тарелки, вилки, мне накрывайте вот здесь, на стуле, себе на столе. Будем обедать. Потом сварите кофе.
— Вы один живете?
— Один. А готовит соседка с третьего этажа. Я ее зову «тимуровкой». Деньги она за работу берет не по трудам и характер отвратительный, но я терплю и боготворю ее, потому что без нее бы пропал.
«Тимуровка» вела хозяйство образцово, на кухне царил порядок. На столе лежала записка: «Игорь Андреевич, подливку не успела, ешьте голубцы так».
Каждый, кто работал с личным клеймом, два раза в неделю обучал своей операции практиканта из технического училища. На конвейере их насмешливо звали «практикванты». Лет пять назад какой-то недотепа высказался: «Ты не цыкай на меня, я тебе тут не лишь бы кто, а практиквант», — и не забылось словечко, прижилось, загуляло по цеху. Нынешние «практикванты» отличались от прежних и ростом и эрудицией, крепенькие, ясноглазые, а все равно даже рядом с Володей Соломиным проигрывали. Поставь их хоть на улице рядом — видно, что Солома с конвейера, а эти еще возле него. Хорошо было тем «практиквантам», которые попадали к Колпачку, к Марине или Соне, и худо — чьи учителя забыли собственные первые дни на конвейере. Эти горе-наставники красовались перед своими подопечными, не упускали случая унизить новичка. Неожиданно таким учителем оказался Шурик Бородин.
— Тундра зеленая, — говорил Шурик Бородин, — куда же ты, вечная мерзлота, тянешь кронштейн? Ты сам к нему тянись, ферштейн?