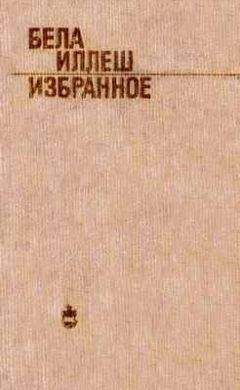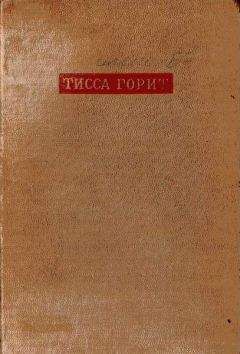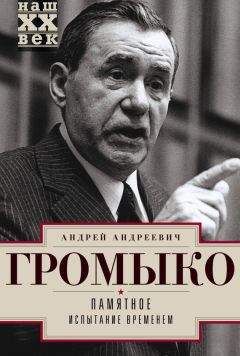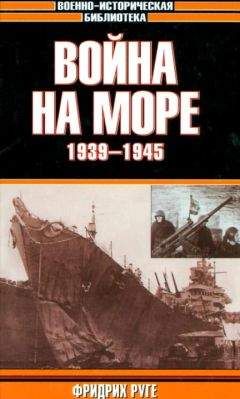Бела Иллеш - Избранное
В результате работы трех организационных комитетов пеметинские граждане-избиратели, встречаясь на улице, перестали кланяться друг другу.
В тот самый вечер, когда в кэблевском доме сошлись основатели партии, мы тоже собрались у костра. Мы не ели и не пили, как они, но и не ссорились.
Григори Михалко весь вечер молчал. Он очень изменился за месяцы, проведенные в тюрьме. Обычно пеметинские лесные рабочие, попадавшие в тюрьму, возвращались домой потолстевшими: питание в тюрьме было лучше, а работа — менее изнурительна, чем в лесу. Григори Михалко похудел. Это заметнее всего изменило его. Теперь он целыми часами мог сидеть молча, с неподвижным взглядом. Это продолжалось в течение многих месяцев и прошло только когда медвежатник наконец высказал то, что его мучило.
— Поверь мне, Геза, — сказал он (через пять-шесть месяцев после возвращения), — не виселицы я боялся. Нет. Меня мучило то, что невинный человек может попасть в такое положение… Если бы меня разрезали на куски за то, что я сделал, даю тебе слово, я ничуть не возмущался бы. Но когда человека наказывают за то, чего он не сделал, за то, что он сам считает подлостью…
— Как ты можешь, Григори, мучиться оттого, что враг ведет себя подло! Я понял бы тебя, если бы мы думали, будто ты убил Ревекку…
— Теперь я уже не мучаюсь. Прошло, — сказал Григори: — Враг есть враг. Знаю. Но раньше я думал, что враг тоже человек.
— Хорошо, что ты все понял.
— Да, хорошо.
Он безмолвно и неподвижно глядел в огонь, крепко сжав губы. Невысказанная жалоба Григори удручающе действовала на всех нас. Хозелиц, переживавший уже не раз то, что случилось сейчас с Григори, начал шутить, чтобы развеселить нас. Но искусственная веселость не заражает.
Когда Хозелиц умолк, заговорил я. Я говорил о больших будапештских демонстрациях, о майских баррикадных боях. Я думал, что мои слушатели будут изумлены геройством будапештских рабочих. Но вместо этого мне самому пришлось удивляться — пеметинцы находили совершенно естественным, что борющийся за свое дело рабочий не боится смерти. Я их хотел поучать, а вышло так, что я учился у них.
Попал я домой на рассвете. Утром не мог встать.
Готовясь в Будапеште к экзаменам на аттестат зрелости, я чувствовал необычайную усталость, которая не покидала меня и после экзаменов. Даже и сейчас, уже целую неделю живя в лесу, я был так слаб, что пришлось лечь в постель. Мать измерила температуру. Тридцать семь и две.
— Ничего. Отдохнешь денька два.
Я пролежал три дня, но усталость не проходила. А термометр упорно показывал тридцать семь и две. По ночам я потел. Отец пригласил врача.
Доктор Шебек основательно осмотрел меня. Пока он измерял мне температуру, мы с ним разговаривали.
— Что вы скажете относительно сербов и болгар? Нахальство, не правда ли?
— Признаюсь, господин доктор, я не верил, что в Европе еще возможна война.
Доктор засмеялся.
— Во-первых, милый Геза, Балканы это не Европа. Географически они, правда, принадлежат к Европе, но в отношении культуры этого сказать нельзя. В этом отношении они полудикари. Во-вторых, то, что сейчас происходит на Балканах, не война, а трактирная драка. Четыре крошечных опереточных государства против великой, могущественной Турции! Турция съест этих «противников» за завтраком. Даю вам слово. Ну-ка, покажите термометр. Тридцать семь и две. М-да…
Доктор определил, что у меня поражены верхушки легких.
По его совету я лежал по целым дням во дворе, под большим дубом, на подстилке, сделанной из сосновых веток.
— Хороший воздух исцелит его, — сказал доктор. — Больше никаких лекарств не нужно. Через четыре недели он встанет.
Доктор Шебек оказался плохим пророком и как политик и как врач. Что касается политики — Турция не съела своих противников, а наоборот, армии четырех «опереточных государств» (не считаясь с тем, что вся венгерская пресса разделяла мнение Шебека) выигрывали одну битву за другой. Симпатии Венгрии принесли Турции так же мало пользы, как мне — хороший воздух. Когда война придвинулась уже к самому Константинополю, к Чаталдже, однажды утром у меня началось кровохарканье.
Приглашенный из Марамарош-Сигета врач советовал перевезти меня куда-нибудь на юг — в Италию или в Египет. Об этом, конечно, не могло быть и речи, так как понадобились бы деньги. Но поехать в Пешт учиться я, конечно, не мог и остался в Пемете.
Оставшись в Пемете, я пережил события, которые даже немого могли сделать оратором и слепого — зрячим. Не смейтесь надо мной — я и сейчас с благодарностью вспоминаю свою болезнь и доктора Шебека за то, что он не мог меня вылечить. Если бы он поставил меня на ноги, я бы, вероятно, пошел по одному из двух путей, которые избирали многие образованные сыны Подкарпатья. Либо я получил бы диплом и возвратился в Подкарпатский край и использовал бы свои знания для одурманивания, угнетения и ограбления жившего там народа, либо переехал бы в другой край и, позабыв родные места или даже изредка вспоминая их, рассказывал бы в веселом обществе анекдоты о простодушии тамошних жителей. Из-за своей болезни я пережил вместе с народом Подкарпатья много тяжелых часов и месяцев и — стал «предателем». Так назвал меня директор берегсасской гимназии, с гордостью перечисляя на сорокалетием юбилее имена своих бывших учеников, которые завоевали Берегсасу славу, сделавшись генералами, депутатами, директорами банков. Гордился он и тем, что только один берегсасский гимназист, по имени Геза Балинт, изменил благонравным традициям, прививаемым его учебным заведением, и заклеймил меня — «предателя» — презрением.
Я много раз читал, что перед смертью умирающий вновь переживает всю свою жизнь. Со мной было не так. Я был уверен, что скоро умру, но меня интересовало не пережитое мною прошлое, а будущее, которого я не увижу.
Будущее…
Политическая жизнь изменилась в корне. Народ Венгрии волновался — требовал прав, земли и хлеба. Правительственная пресса била в набат: «Россия и ее балканские оруженосцы покушаются на жизнь Венгрии!»
Которая же из войн начнется: война венгерского народа против венгерских господ или же война венгерских господ против русских господ? Каково будущее?..
Понятно, что в те времена много говорилось о России. Из всех сообщений о ней нас, под Карпатами, больше всего интересовали те, в которых говорилось о «пророке» Элеке Дудиче. О нем писали иногда и в газетах. Но большинство новостей передавалось только из уст в уста.
Вести эти, как мы теперь знаем, не все были достоверными. Ложным оказалось, например, сообщение о том, что царь Николай выдал за Дудича свою младшую дочь и передал ему половину своего царства. Не оказалось правдой и радостное известие, будто царь дал Дудичу сто миллионов крон для поддержки русинского народа.
Трудно было бы перечислить все те слухи о «пророке», которые впоследствии оказались ложными. Вместо этого я расскажу о нем то, что, как выяснилось впоследствии, в общих чертах было правдой.
Алексея Михайловича Дудича в Киеве взял под свое покровительство богатый и влиятельный граф Бобринский. Граф обеспечил беглеца всеми благами. Но Дудич думал не о себе, а о страдающих в Подкарпатье русинах. Изо дня в день рассказывал он графу Бобринскому о нуждах и страданиях русин и просил для них помощи.
По отношению к русинам граф Бобринский оказался человеком удивительным, готовым даже без особых просьб помочь им. Правда, если украинские крестьяне, жившие под властью царя, осмеливались жаловаться, он передавал их в руки жандармов. Но зато русинских крестьян, живших под властью Франца-Иосифа, он сам уговаривал: жалуйтесь, братья, требуйте.
По совету Бобринского, Дудич писал статьи в киевских газетах о нищенском положении живущих в Австрии и Венгрии славян. Потом он стал читать лекции по этому же вопросу. Из Киева он поехал в Москву, оттуда в Петербург. Его лекции везде имели огромный успех. В Петербурге благодаря посредничеству Бобринского русинский «пророк» был принят на аудиенции великим князем Николаем Николаевичем, который подарил ему свой портрет, украшенный собственноручной надписью. В то же время портрет Дудича был напечатан в целом ряда иллюстрированных журналов Петербурга, Москвы и Киева.
Шесть месяцев прожил Дудич в Киеве, работая вместе с графом Бобринским. Он узнал, что граф Бобринский стоит во главе специального бюро, единственной задачей которого является помощь славянским народам Австрии и Венгрии, и прежде всего русинам, в борьбе против австрийцев и венгров. Он ознакомился с методами работы Бобринского, помогал усовершенствовать их и дополнять новыми. За шесть месяцев Дудич осуществил то, над чем в течение многих лет напрасно трудился граф Бобринский: он установил непосредственную связь между Киевом и народами подкарпатских деревень.