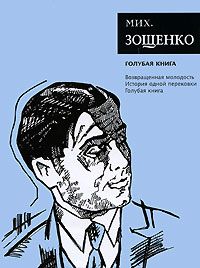Михаил Зощенко - Том 4. Личная жизнь
Из-за стола поднимется почтенного вида человек, похожий на профессора. Произнеся краткую, но прочувствованную речь о счастье на земле, профессор зарегистрирует пришедших под звуки симфонического оркестра.
Наверно, так и будет. И, наверно, жених будет стоять в отутюженных брюках. И у невесты, наверно, будет в руках веер вместо «авоськи».
Нет, сейчас, конечно, не до этого. Война. Все помыслы наши в ином. И нет ни у кого огорчения, что все происходит проще, чем хотелось бы…
Короче говоря, наши молодые люди явились в загс. Сурового вида женщина, осмотрев документы жениха и невесты, сказала:
— Ничего не получится. Еще невесту я зарегистрировать могу. Но что касается жениха, то вот с женихом у меня что-то ничего не получается.
Дрожащим голосом жених попросил растолковать ему значение этих слов.
Регистрирующая браки сказала:
— Сами взгляните, какое у вас командировочное удостоверение. Оно маленькое. И мне там некуда штамп поставить. А без штампа какой же брак? Нет, я отказываюсь регистрировать вас.
Жених хотел встать на колени, чтоб упросить регистраторшу, но, увидев ее суровое, непреклонное лицо, не сделал этого.
В полном смятении жених и невеста вышли из загса.
Жених, наверно, снова на фронте. Катя уехала в Новосибирск.
С печалью во взоре мы описываем это маленькое происшествие.
Ну еще понятно, когда война, когда танки разъединяют любящие сердца. Но чтобы, черт возьми, куцая бумага разъединяла, — это уж, как говорится, сверхдосадно.
Конечно, понимаем: штамп надо поставить. Но если его некуда поставить, то можно поставить на обороте. Или в крайнем случае выдать жениху особое приложение, справку: дескать, так и так, жених, извиняюсь, зарегистрирован, но у него подгуляло удостоверение и мы ему, страдальцу, выдаем отдельную бумажку, чтоб не нарушать его индивидуального счастья.
Нет, в дальнейшем, наверно, так и будет. Наверно, будут делать некоторые поблажки женихам.
А пока, как говорится, бракосочетание не состоялось.
Шапку надень, читатель, если ты снял свой головной убор, сдуру полагая, что ты присутствуешь свидетелем счастья двух любящих сердец.
А ну вас, ей-богу! Какую чепуху разводите в столь несложном деле.
Наступает зима
Прошлую зиму я провел в городе Н.
Чудесный маленький город. Тишина. Стрельбы нет. Затемнения нет. Водопровод отсутствует.
В этом городе я буквально отдохнул душой и телом. Правда, знакомые при встрече со мной ахают.
— Что это, говорят, с вами? Такое впечатление, будто по вас тяжелый танк прошел.
— Не знаю. Чувствую себя довольно прилично. Вероятно, зима меня немного сломила.
Зимой у нас в Н. не было топлива. Нет, нельзя сказать, что вовсе не было топлива. Наоборот, топлива было много. Но оно лежало за городом.
По подсчету научных сил, там имелось топлива минимум на сорок лет.
Это может радовать население, что имеются такие запасы. Все-таки не так холодно на душе, когда знаешь, что столько припасли.
Был бы транспорт — и, как говорится, дело было бы в шляпе. При наличии транспорта, я так думаю, это топливо непременно стали бы вывозить. И тогда что-нибудь и перепало бы населению.
В декабре жильцы нашего дома сходили в горсовет. Обратились к председателю. Сказали ему: дескать, топливо за городом, лежит себе, мокнет; разрешите, дескать, на саночках вывезти малую толику для своих низменных потребностей.
Председатель на нас рассердился. Он сказал:
— Или вы очумели, или я не знаю, что с вами! Где это видано — расхватывать топливо неорганизованным порядком?! В настоящее время мы печатаем ордера на получение дров. Через неделю мы вам выдадим эти ордера. И по ним вы получайте дрова, когда мы их подвезем.
Один из жильцов, малодушно вздохнув, сказал:
— А если не подвезете?
Председатель сказал:
— Если не подвезем, тогда имейте мужество с достоинством нести невзгоды во время войны.
В конце декабря население города стало сносить заборы. Стало заборами топить печки.
Председатель горсовета прямо ахнул, когда увидел такую картину.
И он отдал распоряжение — разобрать все заборы, сложить их в кучу на пустыре с тем, чтоб весной снова опоясать сады заборами.
Две недели разбирали заборы. Сложили их в кучу на пустыре. И поставили охрану.
Однако население не растерялось. Перестроив свои ряды, население стало топить печки деревьями.
Чудные деревья исчезали с бульваров и с улиц, спиленные по ночам неизвестной преступной рукой.
Председатель горсовета прямо схватился руками за голову, увидев гибель панорамы чудесного города.
Он сказал:
— С этим злом будем бороться со всей энергией.
Усилили охрану. И патрули стали ходить по городу.
В первую же ночь задержано было на месте преступления сто шестьдесят граждан.
Среди них оказался городской судья, спиливший дерево перед зданием суда.
На суде судья сказал:
— У меня годовалый ребенок. Он топливо себе требует. Без этого разве я стал бы пилить это дерево?
Тогда еще больше усилили охрану. И пилка деревьев почти прекратилась.
Однако население и тут не растерялось. Стали разбирать лестницы, сараи, общественные уборные и так далее.
Боже мой! Что было бы, если б зима продолжалась бы год подряд?!
Но тут ударила весна. И председатель горсовета вздохнул свободно.
На вечере у одних знакомых я встретил этого председателя. Все поднимали бокалы за его здоровье.
Скромно улыбаясь, он произнес ответную речь. Он сказал:
— Зима была чертовски трудная, но мы с честью вышли из положения. Поработали неплохо.
Чокнувшись с председателем, я сказал:
— Поработали вы действительно немало. Интересно знать: что было бы, если б всю эту работу, всю энергию и волю, все рабочие руки: всех сторожей и судей, наборщиков и председателей — направить на одно дело — на перевозку топлива?
Пожав плечами, председатель отвернулся от меня, ничего не сказав.
Наступает новая зима.
Нет, я не хотел бы вернуться в этот маленький чудесный город Н., где председателем горсовета Н. Н.
Добро пожаловать
Два года назад наш славный, цветущий городок Т. попал в руки немцев.
И вот теперь наши доблестные войска вновь вошли в этот городок. Они выкурили немцев. Выбили их из этого города. И, так сказать, вернули его в родную семью советских городов.
Из газет мы знаем, что там произошло за эти два года и как там хозяйничали немцы.
Но один фактик, не отмеченный печатью, я предложу вниманию читателей.
А жила в этом городе некая гражданка Анна Ивановна Л.
Это была немолодая дама. Престарелая. Сердитая. Этакая, понимаете ли, раздраженная. Недовольная всем, что есть. Неприятная особа, затаившая в своем сердце злобу ко всем и ко всему.
Картины современной жизни ее не удовлетворяли. Ей грезилось прошлое. И ей было о чем вспомнить. Она была из богатой семьи. Имела поместья. Каждый год ездила за границу. Бывала в Париже, в Венеции.
Она весело и праздно прожила свою жизнь. И конечно, естественно, наши суровые дни, дни трудовой доблести, не могли создать ей соответствующего настроения. Все кругом ей казалось чем-то будничным, грубым, неинтересным.
И она мечтала дожить до тех дней, когда что-то изменится и она вновь увидит галантных мужчин и услышит изящную французскую речь.
В ее душе теплилась надежда, что прошлое вернется и она снова, как говорится, увидит небо в цветах и алмазах.
И вот, когда немцы подошли к стенам ее города, она поняла, что ее надежды сбываются.
Она надела свое лучшее, муаровое платье, взяла в руку веер и два дня ходила по квартире, бормоча французские слова.
В последний момент она передумала. Она сняла муаровое платье. И вместо него надела захудалую юбку с кофточкой. И на ноги напялила валенки.
Ей показалось более приличным предстать перед немцами в таком затрапезном виде, чтобы те поняли всю ее боль и всю горечь ее жизни.
В захудалом своем костюме она продолжала ходить по квартире, ожидая визита немцев.
И вот отгремели выстрелы, и к ней, наконец, пришли два офицера в сопровождении двух солдат.
Солдаты остались у дверей, а офицеры вошли в комнату. Анна Ивановна залепетала сначала по-французски, потом по-немецки, дескать, ах, она так счастлива, столько лет ждала, и вот, наконец, битте-дритте, исполнились ее мечты.
Нет, немцы не стали с ней говорить по-французски. И не ответили по-немецки. Осмотрев квартиру, они сказали ей почему-то по-русски:
— Эй, матка, очистишь квартиру завтра к двенадцати часам.
Думая, что она ослышалась, Анна Ивановна переспросила их. И они снова ей ответили то, что сказали. И пошли к выходу.
У Анны Ивановны мелькнула догадка. Быть может, тряпье, надетое на нее, ввело немцев в заблуждение. Быть может, будничный советский вид заставил подумать немцев, что она просто работница, пролетарка. И вот почему они так сурово с ней обошлись. И так грубо приказали ей убраться из квартиры, в которой она жила тридцать лет.