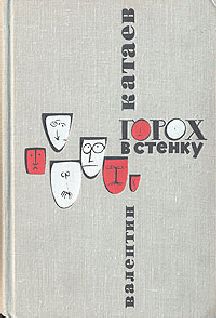Иван Катаев - Сердце: Повести и рассказы
За селом доцветала узкая ветреная заря, после заката опять быстро похолодало. У темных, еще не засветивших огня домов девки заводили свои тонкоголосые песни, на шоссе то и дело попадались кучки парней с гармонями; праздник, урвав остатние часы, все-таки хотел разыграться. Дальше на шоссе поредело, Калманов прибавил газу. Он поудобней приладился на сиденье, предчувствуя излюбленную им свободную и быструю ночную езду. Мель* кали по бокам последние горбатые строения, впереди раздвигался шире непогасший бледно-оранжевый край неба. При выезде из села еще наддал, крайняя изба опрометью кинулась назад. И тотчас же судорожным, еще самому себе непонятным движением он дернул ручной тормоз и навалился на педаль. Бросило вперед. Машина стала.
Перед самым радиатором в белом условном свете фар лежало длинное, черное; человек.
Калманов посигналил, тот не шевельнулся. Он распахнул дверцу, выпрыгнул наружу, подошел. Человек лежал ничком, подвернув одну ногу под другую; в ярком луче белели грязные, в крестах бечевы, онучи, подле головы темнела свалившаяся шапка. Тряхпул его за плечо, он забурчал невнятное.
— Эй ты, дядя, — сердито сказал Калманов, — расположился тут. Вставай, задавят.
Вот сукин сын; другие работают, а этот, видно, целый день пропьянствовал. Или единоличник?
— Вставай, вставай, нечего. Сползай с дороги.
Он тянул его за ворот. Человек, упершись ладонями в землю, приподнялся и сел.
— И не стыдно тебе? У людей работа, а ты дурака валяешь и нализался до свинства. Единоличник, что ли?
Тот вдруг тоненько захихикал.
— Нет, ты мине не ругай, — весело пролепетал он. — Ты мине не можешь ругать, я работал.
— Где это ты работал?
— А со своей бригадой. — Он с хитрым смешком погрозил ему пальцем. — Я тебя знаю, ты Карманов, начальник. И ты меня ругать не должон.
— Значит, колхозник. Совсем скверно. Прогулял сегодня? Ну, давай, давай поднимайся, некогда мне с тобой тут.
Тот все сидел, посмеиваясь.
— Да я не прогуливал, нет. Мы еще с тобой говорили нынче.
— Когда говорили? Как твоя фамилия?
Калманов вынул из кармана фонарик, отжал кнопку, выплыло круглое перепачканное лицо, наморщенное от света, улыбающееся. Он огляделся. Это был тот щупленький колхозник, который возле подводы с картошкой справлялся у него, сколько времени. Они действительно тогда перекинулись двумя-тремя словами насчет возки.
— Ты что же, до конца работал? — спросил он все еще недоверчиво.
— А как же? До конца. Свое отработал, значит, теперя можно.
— Когда же ты, чудак, надраться-то успел?
Тот молча покопался в кармане штанов и вытащил оттуда бутылку, взболтнул.
— Во, — похвалился он, — как раз половина на опохмелку осталась. А хочешь, на, пей, — и доверчиво протянул ему.
Что с ним будешь делать? Ведь не дойдет до дому, опять где-нибудь свалится.
— Ты где живешь, далеко?
— Нет, ту точки, — он мотнул головой куда-то в сторону.
— Какая изба-то?
— А самая, самая с краешку.
Отвезти, что ли? Все-таки человек работал целый день.
— Ну, погоди, я сейчас.
Калманов сел в машину и, осторожно объехав пьяного, провел ее вперед, до мостков полевой дороги. Там свернул в сторонку и заглушил мотор. Когда он возвратился, парень сидел на прежнем месте, дремал, свесив голову, держа обеими руками бутылку. Надел ему на голову шапку, сунул бутылку в карман его ватного пиджака. Взявшись под мышками, помог ему встать.
— Ну, теперь шагай, держись за воздух.
Повел под руку, освещая дорогу фонариком; тот шел довольно твердо, но, перебираясь через канаву, они чуть не свалились оба.
— Стой, стой, куда ты полез? — Выбрались. — Это, что ли, твой дом?
В двух окошках приземистой избенки горел свет. Они вошли сбоку в сенцы, Калманов, поводив фонариком, нашел скобку, отворил дверь. У стены на лавке сидели женщина и девочка.
— Ну, хозяйка, принимай гостей, — начал он весело и сразу смолк.
На той же лавке, в углу, под черной иконкой стоял маленький некрашеный гроб, покрытый сверху обрывком кисеи.
Спутник его пролез в дверь, шагнул вперед, покачался на месте и прислонился спиной к печи.
— Вот у нас... такая история, — сказал он с рассеянной пьяной улыбкой, показав на гроб.
Женщина медленно поднялась, тихо всплеснула руками.
— Господи ты боже мой. Какого привели! — И прикрыла лицо ладонями. Когда отняла их, глаза и щеки ее были мокры. — Стыд-то какой, — прошептала она. — Измаранный, изгвазданный. Товарищ Карманов, — она взглянула на него умоляюще. — Где же вы его... Где ж вы его такого подобрали?
Калманов все никак не мог прийти в себя.
— Да тут... рядом, — сказал он.
Это муж ее, видимо.
Тот стоял все с той же тусклой, остановившейся улыбкой, прислонившись к печи. Но ноги его начали разъезжаться, он оседал, скользя спиной по обмазке. Женщина подхватила его за руку у плеча, потащила в угол, где за ситцевой занавеской виднелась деревянная кровать. Калманов поспешно поддержал с другого боку.
— И не совестно тебе, не совестно? — приговаривала она, всхлипывая. — У самого дочка скончавшись, а он хоть бы что, пьет, гуляет. Отец ты ей али нет? И хоть бы пить-то умел, а то чуть хлебнет, а уж с ног валится. Болезненный он у нас, — обратилась она к Калманову оправдывающе.
— Ничего, ничего, — бормотал совсем осоловевший хозяин, усевшись на постель, — Это мы сейчас, моментом. — Он попытался встать, но она легонько толкнула его на груду розовых подушек, он упал в них головой, подергался и тут же захрапел.
Калманов стоял в нерешительности. Уйти мне, или как?
Та девочка, все время неподвижо сидевшая на лавке, смотрела на него строго, почти зло. Но хозяйка подвинула ему табуретку, наскоро обмахнув подолом.
— Посидите, товарищ Карманов, отдохните. Спасибо вам за вашу заботу.
Сразу уйти тоже неловко. Он сел.
И как у них, принято разговаривать при покойнике, или, может быть, не полагается?
Он все-таки спросил:
— Сколько лет было девочке?
Но мать ответила охотно. Без двух месяцев три годика.
Присев на лавку, подле гроба, подробно рассказала, чем болела дочка, как лечили, отчего померла, какая была славненькая. И уже не плакала больше, совсем успокоилась. Калманова даже удивила немного ее словоохотливость. Это была худенькая женщина, с кротким и заморенным взглядом бесцветных глаз, на вид еще совсем не старая, без седины. Таким, подсушенным, и сносу не бывает. А говорит, хоронит уже шестого ребенка.
— Это тоже дочка ваша?
— Это старшенькая, — она провела рукой по ее льняным подстрижепным волосам. — Одна теперь осталася.
Девочка не пошевелилась, глядела все так же холодно, прямо, но уже без злобы.
— Фамилия-то ваша как?
— Чекмасовы наше фамилие.
Чекмасов. Что-то такое помнится.
— Вы в какой бригаде?
— Я-то на скотном, дояркой. А муж в четвертой.
— Постойте-ка. Это не вы ли в сентябре корову получили от колхоза?
— Как же, мы самые.
Так ведь это тот самый Чекмасов, которого я тогда наставлял на собрании, чтобы получше работал. И забыл, совсем упустил из виду. Небреяшость, ротозейство какое. Так и не проследил, не поинтересовался, как это на нем отозвалось, увлекся другими. Но почему-то он никогда на глаза не попадался. Или он тихий, забитый такой, что ли? Ни разу не слыхал его на собраниях. Как же он стал работать? Вот сегодня-то вышел, несмотря на то, что такое несчастье в доме. Молодчина. Хотя сегодня же и назюзюкался. Но это, может быть, с горя... Непременно завтра же все разузнать о нем.
Он спросил Чекмасову о корове, удалась ли покупка. Она радостно поведала, до чего все хорошо вышло, какая богатая попалась корова, удойная, стельная, к крещенью теленочка ждут.
— Уж так-то мы сразу вздохнули с ней, так поправились, прямо не знаем, как и благодарить-то. Это товарищ Фатеев все, председатель, завсегда помнит нашу бедность, ни в чем никогда не отказывает.
— А бедно жили?
— Ну то есть до того бедно, хуже всех. Самыми последними по селу считалися. Бывалось, ни обувки, ни одежки, на люди-то выйти просто страм, ото всех одни насмешки. А кормилися чем? Одна непроглядная картошка немазаная, а хлеб-то с лебедой, с крапивой сушеной, со всякой гадостью. Коротко-ясно сказать, товарищ Карманов, как дикие звери жили. Сейчас и вспомнить страшно.
Она замолчала и невидящими глазами уставилась в широкую грязную стену небеленой печи.
— Ну, а в колхозе как вам было первое время?
— В колхозе получшело малость, да ведь без него-то мы и вовсе бы по кусочкам пошли, побираться. Лошадь у нас еще за год до колхоза пала, куда ж нам без нее? Тут к богатому одному, ну, просто выразиться, к кулаку, пошли в нсполье, от него одна обида получилась. Никакой у нас дороги-путя не было, вот только что по миру идти... Ну, и в колхозе-то, конечно, те года не так уж вольготно было, беспорядку много, невежества, да и сами мы тоже непривычные были к общей работе.