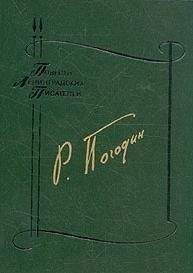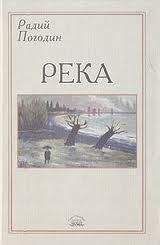Радий Погодин - Я догоню вас на небесах (сборник)
После программы «Время» пришел Родитель.
— Современная молодежь, — сказал он. — И жених у нее такой же идиот.
Родитель подошел к скульптуре. У Алексея Степановича сжалось сердце: врежет кулаком по лицу — и все. Глина раздастся в стороны безобразной воронкой, и уже нельзя будет дальше рассчитывать на Звезду — он уже будет бояться.
Родитель стоял перед укутанной скульптурой. Шея его напряглась. Он потер лоб. Пробормотал:
— Лелька… И тряпками своими ты ее не скроешь. Бывало, сидит, уроки делает. К ней зайдешь, а она так к тебе и потянется, как котенок.
— Может, посмотрите?
— Ты что! Она ж голая. Она ж дочь…
Родитель отошел к стеллажам. Взглядом сосчитал танцовщиц.
— Чего они все в таких позах — не на носочках?
— Двадцатый век.
— Похабель. А чего мужиков мало?
— Неинтересно мне их лепить. Простые, как циркуль.
Родитель похмыкал, наверно соображал, похож ли на циркуль он. Наверно, ответ в его голове возник отрицательный.
— Ну, а таких, как я, лепишь?
— Леплю. Со звездой Героя. Лучше с двумя.
— Иди ты… А Лелькину статую как назовешь?
— Девушка.
Родитель хихикнул.
— Какая она теперь девушка. Раз у меня попросили ее руки, значит, беременная. Назови «Леля».
— Правильно. Назову «Леля».
— Герберта ты бы вылепил тоже. Он в порядке. Он тяжести поднимает… — Родитель подошел к окну, глянул на якорь и вдруг спросил с разгоревшимся интересом: — Скажи, куда картины деваются? Художников, наверное, тысяч сто, а картин в домах нету. Я когда по холодильникам работал — ремонт по абонементу — по квартирам много ходил. Или старинные висят — от дедушки, или эстампы. Когда новые — значит, сам хозяин художник или кто-нибудь из семьи. Но чтобы покупная — такого не попадалось. Не покупает народ. Ты кому своих балерин продаешь?
— В музеи, в театры, в другие учреждения. Через закупочную комиссию.
— За счет трудового народа. А вот я бы лично купил. Вот эту бы швабру. Я бы на нее шапку вешал.
— Прелестная балерина! Из труппы Бежара!
— Сколько за нее хочешь?
— Две тысячи.
— Отвалил бы. Жаль, нету. Ей-богу, отвалил бы.
А через две недели Леля вышла замуж за Славика Девятова и уехала жить к нему на Васильевский остров. На прощание она зашла к Алексею Степановичу. Сидела долго и все смотрела в окно.
Потом к Алексею Степановичу пришла дочь. Тоже долго смотрела в окно.
— Папа, спасибо тебе за мастерскую.
— Ты это мне говорила.
— Тогда по долгу вежливости. Сейчас — как родная.
Алексей Степанович проглотил комок в горле.
— У меня ребенок будет, — сказала дочь. — Если бы не мастерская твоя, Ступенькин бы от меня ушел. — Ступенькиным она называла мужа за пристрастие к незатейливой диалектике.
— Я рад, — Алексей Степанович закашлялся. — Как работа?
— Светает, — сказала дочка. — От солдата я отказалась. У нас не государство — мемориал. Ступенькин будет лепить — он трепетный.
— Во всех странах есть мемориалы.
— Но не на въезде в город.
Алексею Степановичу всегда было неуютно с дочерью. Он стеснялся ее резкости и ее прямодушия.
— А это у тебя что? — Дочка сняла тряпки с «Лели». Обошла ее кругом, покусывая нижнюю губу. — Можешь. Говорю, еще можешь влюбляться.
— Не продолжай, — остановил ее Алексей Степанович.
— Почему?.. А почему бы тебе не жениться? На такой вот киске. — И тут она увидела за окном якорь. Когда смотрела на него в упор — не видела, а тут увидела. Всплеснула руками. — Якорь вывели погулять!
— Его вывели насовсем, — сказал Алексей Степанович.
Дочка ушла, поцеловав его на прощание.
Алексей Степанович сам отлил «Лелю» в гипсе.
В гипсе скульптура делается другой — светящейся. Пыль на стеллажах от этого становится чернее, автор отдаленнее — даже как бы и вовсе ни при чем.
Родитель совсем заробел перед гипсовой «Лелей».
— Ты бы прикрыл ее, что ли, шалью, — сказал он. — Или полотенцем банным.
Мастерская была ей тесна…
Вскоре «Лелю» увезли на выставку.
Бронзовые балерины выдвинулись из темноты. Они требовали зеркал, бликов, теплого вощеного дерева и хрустальных люстр.
В тот день, когда Алексей Степанович решился на «Одинокого», в мастерской было не продохнуть — сгорели гренки с костромским сыром. Дыма было столько, что кто-то позвонил в дверь — Алексей Степанович лепил эскиз «Лермонтов с револьвером» на подоконнике и не замечал запаха. Пришлось все открыть: и двери, и окна.
Тут он и увидел Герберта.
Парень стоял над якорем, мощный и одинокий. Одиночество было во всем его облике — в настоящем и будущем.
Творец, создав Еву из ребра мужчины, тем самым заклял мужчину на одиночество.
— Я тебе говорил, что ты его вылепишь, — сказал за спиной Алексея Степановича Родитель. Он вошел в открытую дверь, не постучав. — Как рядом с Гербертом Лелька смотрелась. Это же диво, когда они рядом шли, — черт те что. Лелька-то испугалась. Подумала — вдруг перестанет быть. Я ее, дуру, знаю. Теперь всю свою жизнь будет потихоньку плакать.
Пальцы Алексея Степановича сминали фигурку Лермонтова и образовывали одинокую фигуру парня — впрочем, и Лермонтов был одинок в этом мире.
Только сейчас Алексей Степанович увидел над якорем нишу в стене. Он ее видел всегда, но не увязывал с якорем. Эта увязка пришла от Герберта.
Вот Герберт нагнулся, ухватил якорь, поднял его на грудь и каким-то волнообразным движением тела с коротким стоном втолкнул в нишу. Постоял. Пообхлопал ладони. Размял пальцы. Лицо его было бледным и очень спокойным.
— Герберт, Герберт… — прошептал Родитель.
Когда Герберт ушел, Родитель и Алексей Степанович, торопясь, согнули из восьмигранного стального прутка петли, две на лапы, третью на серьгу. Пробили шлямбуром дырки в стене и вмазали петли в стену цементом, чтобы клоуноподобные отроки в клетчатых штанах, которым все до лампочки, не сбросили якорь на землю.
Якорь не сбросили. И не испачкали. И девушки красивые по воскресеньям на него засматривались.
А Алексей Степанович записал в тетрадку: мол, в голове не возникнет ничего стоящего, если оно раньше не возникло в сердце.
Бабник Голубев
Ресницы у Аллы Андреевны были синими, тени вокруг глаз зелеными, отчего взгляд ее казался оранжерейно-таинственным, ускользающим, как блик в подвижной листве.
Алла Андреевна стояла с охапкой спецификаций на табурете перед высоким стеллажом. Правую ногу она поставила на полку для упора. А на юбочке разрез большой. А в разрезе нога цвета чуть загорелого женского тела.
Он подумал: «Это не нога — это орден».
Она сказала:
— Пожалуйста, помогите.
Он подошел, схватил ее ногу.
Она улыбнулась.
— Не нужно держать мою ногу. Подержите папки.
Он отпустил ее ногу, взял тяжеленные папки — спецификации.
— Пожалуйста, подавайте мне по одной, — сказала она. — Вы о чем задумались?
— Насчет ужина. Знаете, такого, с легким вином.
Взгляд Аллы Андреевны стал как зеленое половодье, но ответ, показалось Голубеву, был уклончив:
— Поздно, милый.
— Как поздно? Еще середина дня. — Его поразило слово «милый». Так говорят идиотам, а он все-таки инженер, кандидат наук.
— Поздно вы догадались. Вы у нас который день?
— Девятый.
— Видите, сколько дней мы без ужина. А завтра, как мне известно, вы уезжаете. Кстати, еще ни один разработчик не оставался у нас за собственный счет на денек-два. Потанцевать…
Алла Андреевна все еще стояла на табурете на одной ноге — и разрез на юбочке, и юбочка без единой морщинки, и глаза у Аллы Андреевны, как таинственные цветы — орхидеи.
Голубев слыл в своем учреждении бабником. Обаятельность этому его свойству придавало его холостое гражданское состояние. Он был решителен, мог позволить себе многое и все же остаться на день-два сверх срока командировки не мог. И не по причине скупости, якобы присущей холостякам, — он зашивался. Он иногда думал: «Почему у нас все, как один, зашиваются?» Ответа на этот вопрос у него не было.
— Хорошо, — сказала Алла Андреевна. — Куда вы меня поведете?
— В «Север».
— Вы водили туда в прошлый приезд Дину Федоровну из пятой лаборатории.
— Это была ошибка! Так сказать, сослепу.
Алла Андреевна спрыгнула с табурета.
— Пойдем в «Эвридику». — Она улыбнулась, словно в оранжерее включили дополнительное освещение. От волос ее пахло морем и гиацинтами.
Ресторан был расположен на берегу, среди сосен. Ни позади него, ни сбоку не громоздилась тара, которую позабыли вывезти. Настроение создавали аллеи крымского можжевельника, замшелые валуны и клумбы ярко-красной сальвии, как распахнутые люки в ад. И шуршание гальки.
«Эвридикой» ресторан назывался потому, что в нем в перерывах, когда замолкал оркестр и молоденькая певица переставала что-то творить под Аллу Борисовну Пугачеву, метрдотель включал голос покойной Анны Герман.