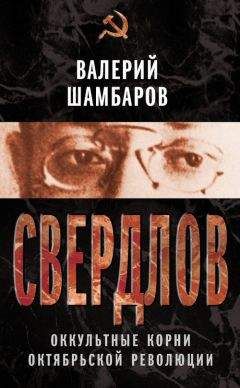Михаил Алексеев (Брыздников) - Девятьсот семнадцатый
— Меня?.. Это очень отлично.
— Ну, вот, старайся. Пьешь?
— Пью.
— А воздержаться можешь?
— Могу. Как же ж.
— А врать умеешь?
— Гы-гы. Это как же?.. Разве можно? Зачем же? — смутился Дума.
— А если для дела нужно будет соврать, сумеешь?
— С моим почтением. Замечательно совру.
— А большевиком прикинуться можешь?
— Могу-с.
— Ну и хорошо. Платить буду много. Вот тебе за два месяца вперед. Купи себе на дорогу костюм поприличнее. Только спеши. Через час едем.
* * *Между тем полки дивизии, оставив гостеприимное советское Баку, продвигались через Азербайджан к Тереку и Кубани.
Безлесная, выжженная солнцем равнина, с юга замкнутая Кавказским хребтом, далеко разбросалась на север. Жара, оранжевые пески, синие тени и дикие, преисполненные ненависти к русским мусульмане.
Эшелоны дивизии, солдатское оружие, имущество, точно редкая приманчивая дичь, как магнитом, притягивает к железнодорожной магистрали огромные тысячные толпы вооруженных бесстрашных горцев.
Еще в Баку Гончаренко вместе о Марусей перекочевали в вагон дивизионного комитета к Нефедову и Васяткину. Мучительные переживания последних дней как-то сгладились, притупились, возврата не было, и образ Тегран, странный, загадочный, как грустное воспоминание о несбывшемся счастьи, лишь изредка непрошенным гостем посещал его голову.
Раненый Драгин остался в Баку. Так от него и не узнал ничего Василий.
Маруси он сторонился, не замечал ее. Помогая Васяткину, он с головой ушел в горячку пропагандистской работы среди солдат дивизии.
Нефедов политическими делами интересовался меньше. Он представлял собой выборного командира дивизии в обстановке не менее сложной, чем на фронтовой позиции, и все часы своего бодрствования занимался вопросами боевого порядка.
Воинственное настроение населения Азербайджана, Дагестана и Чечни заставляло всю дивизию и в особенности: Нефедова, как командующего, быть все время начеку.
Этим утром Нефедов находился в особенно дурном расположении духа. Он сердито разгуливал по коридору мягкого вагона, в котором помещался штаб, теребил свою черную, веером, бороду и ругался настолько громко и сердито, что своим поведением заинтересовал Гончаренко, мирно беседовавшего в купе с солдатами своего прежнего взвода.
Василий подошел к старому взводному и спросил:
— Что затужил, Нефедыч?
— Грех один. Вон видишь, — указал взводный на окно. — Табуном съезжаются гололобые. Опять пакость какую-нибудь учинят.
— Чего же волноваться?
— Как что? Едем, как черепахи, пять-десять верст в час. Смешно. А скорее ехать нельзя.
— Почему же?
— Того и гляди полотно разберут и под откос пустят. Народ дикий, несознательный. Не понимают, что мы с собой свободу несем. Попросили бы чинно, и оружия дали бы немного. А то… Эх.
— Что, а то?
— А то, как только остановка, приезжают такие нахальные и злые, как змеи, и без никаких. Давайте все оружие, кричат, иначе всех перебьем. Вот народ. За ночь десять раз рельсы разбирали — разве возможно. Ты вот спал, а у нас даже бой небольшой был. Только не годится так.
— Что не годится?
— Понимаешь, вот ночью — видим, рельсы разобраны. Съехались наши эшелоны, начинаем чинить. А они — сила несметная, тысячи, на лошадях. Да на нас.
— Ну?
— Да меня не провести. Я пулеметы выставил и орудия направил. Один раз бабахнули бы и разбежались бы, черти. Только не дал же.
— Кто не дал?
— Васяткин. Это, — говорит, — озлобляет. Неполитично. А нашего брата бить ни за что — политично. Чудак-человек! Ну, из пулемета только и постреляли. Да разве пулеметами напугаешь? У них тоже пулеметы есть.
— Они за нами едут?
— Да. Поезд, как улитка, а они на лошадях, видишь, по обеим сторонам скачут, чего-то замышляют. Кружатся над нами, как воронье над битвой. Вон, смотри, сколько тысяч их.
Гончаренко подошел к окну, внимательно осмотрел вокруг местность.
На залитой жаркими солнечными лучами песчаной степи в стороне от эшелона ехали тысячи конных фигур. Иные группы подъезжали почти вплотную к составу, угрожающе размахивали саблями и винтовками.
— Готовят что-то, — продолжал Нефедов.
— Вечером уже будем ехать казачьим районом. Отстанут.
— Но до вечера еще могут делов натворить. Тут бы два-три залпа из орудий и разбежались бы.
— А где Васяткин?
— У себя в купе. Лежит и читает. Только что это? Палят? Смотри. Ах, черти, бьют из орудий по нас. Значит, разобрали дорогу и думают тут нас прикончить. Ну, стой же. Так и есть. Поезд стал.
* * *Эшелоны остановились.
Обозленные солдаты серыми тучами высыпали из вагона. Выкатывали пулеметы, выводя лошадей, разгружая орудия. Вся дивизия, как один человек, горела желанием устранить надоевшую помеху.
Васяткин пытался еще уговаривать не пускать в ход артиллерию, но — к радости Нефедова — эти уговоры не помогли.
Пока все возраставшая трескотня ружейной и пулеметной перестрелки не превратилась в настоящий бой, Васяткин собрал вокруг себя дивизионный комитет. Быстро посовещавшись, вынесли решение дальнейший путь продолжать походным боевым порядком, не погружаясь в вагоны, пока не минует опасность.
Бой разгорелся нешуточный.
Горцы, надеясь на большую добычу оружием, снаряжением, вели отчаянное наступление. Местами они предпринимали кавалерийские атаки. Местами, под прикрытием своих орудий и пулеметов, с криками «Алла, Алла» мчались лавиной на эшелон.
Но преисполненные боевого героизма, они все же неспособны были долго сражаться с более сильным и качественно лучше обученным практическому военному делу составом дивизии.
Когда шестнадцать орудий дивизионной батареи загремели громами залпов, противник тут же рассеялся и бежал, побросав на месте сражения своих убитых и раненых.
Когда бой был закончен, тут же были погружены в теплушки сотни раненых, а десятки убитых погребены.
Разбившись на две колонны, имея между собою проездные составы, полки тронулись в дальнейший путь. Среди солдатских колонн в упряжке громыхали орудия, зарядные ящики, назвякивали железом пулеметы, а впереди и по сторонам, у парящих в синеве горизонтов, гарцевали конные разъезды, охранительные и разведывательные дозоры дивизионных кавалеристов.
— Дураки мы, что не взяли в Баку бронепоезд, — говорил Нефедов, идя вместе с комитетом во главе правой колонны. — Право, дураки. Куда быстрее прошли бы этот путь. Еще долго они нам не будут давать покоя.
И действительно, до самого позднего вечера песчаная степь была полна всяких неприятных неожиданностей.
Как будто с неба била по колоннам артиллерия. Выпустит десять-пятнадцать снарядов и замолчит. То у самого носа зарокочут пулеметы, то налетят рои пуль, вырывая из солдатских колонн десятки жизней.
И только ночью, когда мрачный горный район был оставлен далеко позади, и колонны дивизии продвигались в тихих просторах казачьих станиц, среди полей, заросших пшеницей и кукурузой, бойцы вздохнули свободно.
Орудия, пулеметы, люди погрузились на платформы и в теплушки, и поездные составы, нагоняя потерянное время, быстро помчались вперед, на ходу развивая все большую скорость.
В штабном вагоне горели свечи. В купе Васяткина сидели все члены комитета. Они подытоживали потери и намечали планы, каким образом наиболее безболезненно разбросать солдат по месту их родины.
Второй вопрос так и не решили, остановившись на том, что дальше будет виднее. Что же касается потерь, то выяснилось, что за время пути от Баку до этих мест дивизия потеряла пятьсот двенадцать бойцов: сто пятьдесят два убитыми, остальных тяжело и легко ранеными.
* * *Странные отношения установились между Марусей и Василием.
Он не искал и не видел в ней женщину, даже напротив, с каким-то странным чувством пренебрежения и гадливости отдергивал свою руку, если она случайно прикасалась к ее руке, или отодвигался от нее прочь, если случайно садился вблизи нее.
Замечая за собой эти странности, он старался теплый словом и улыбкой смягчить тяжелое впечатление, вызываемое у Маруси этим его поведением. Он не хотел женской ласки, он всем своим существом протестовал против любовной паутины, уже обманувшей его так глубоко и болезненно.
Чувство трогательного уважения к женщине вообще, навеянное с детства влиянием матери, испарилось с обожженных стенок его души.
— Любви нет, — рассуждал он, — женщине верить нельзя. Такая, как Тегран, рано или поздно обманет. Такая же, как Маруся, любит во имя грубого чувства и ласки. Лучше не знать любви.
Но Маруся не понимала его. Его холодность, брезгливость были для нее необъяснимым. Она, хорошенькая, молодая женщина, любящая его до самозабвения, ждала его любви. Другой женщины не было, вернее, она не знала ее, и часто по ночам, проводя бессонные часы в слезах, она во всем винила себя и свое поведение в Б. Но, выплакавшись к утру, снова искала его взгляда и вновь надеялась, что холодность минет, как пасмурная зима, выглянет солнце счастья, вновь наступит весна любви. Она несколько раз принималась говорить с ним: