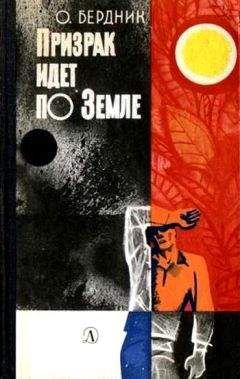Юрий Теплов - Второй вариант
Слева, в широкой седловине между двумя плешивыми горушками, показался разрушенный дувал. К нему вело русло сухого арыка. Цагол-Ахмат скользнул на дно, и сразу же исчезла в нем стариковская сгорбленность, тело стало легким, а шаг — пружинистым.
— Почти пришли, — это были его первые слова за весь пеший путь.
Людей они увидели неожиданно. Трое стояли наверху, молчаливые и невозмутимые. Цагол-Ахмат остановился, достал из складок халата обрывок веревки, накинул ее себе петлей на шею. То же самое сделал переводчик.
— А вы? — спросил Новикова Цагол-Ахмат.
— Извините. Я думал, вы пошутили.
— Сделайте петлю из брючного ремня. Объясню все потом... Делайте все то же, что и я.
И Новиков тоже повесил себе на шею удавку.
Карабкаясь вверх, Цагол-Ахмат сорвал пучок травы, сунул его в рот. Новиков последовал его примеру. Он ощущал себя впутавшимся в непонятную историю. Словно участвовал в каком-то представлении, не зная ни сюжета, ни роли.
Трое с английскими винтовками молча разглядывали их. Четвертый сидел на камне. Был он в черном кожаном пиджаке, из-под которого выглядывала белая сорочка. На боку, пристегнутый к ремню, висел нож в узорчатых деревянных ножнах. У ног небрежно лежал автомат. А в руке он держал... розоватый цветочек. Поднес к носу, понюхал...
— Я пришел, — сказал, проходя мимо него, Цагол-Ахмат.
И Новиков понял, что этот четвертый и есть Маланг. Однако Цагол-Ахмат не остановился возле него, а прошагал к двум старичкам, сидевшим, поджав ноги, поодаль на козьей шкуре. Поклонился, заговорил, выбросив изо рта траву. Ладони у груди, правоверный — и только. И Новиков так же сложил ладони и, вспомнив знакомое по среднеазиатским командировкам, поприветствовал:
— Салям алейкум!..
Старики довольно и с достоинством наклонили голову, отвечая на приветствие: не чураются пришельцы законов предков.
Позже Цагол-Ахмат объяснил Новикову, что у мусульман есть обычай: сначала отдать дань уважения старейшинам, а потом уж молодым, какой бы пост они ни занимали. И Маланг, хоть и главарь, должен был обождать с церемонией знакомства и взаимных приветственных вопросов.
И веревка с травой — тоже старый пуштунский обычай. Если даже кровник придет с петлей на шее и пучком травы во рту, убить его большой грех. Трава во рту — значит, он ничего не может возразить и заранее согласен со всеми обвинениями в свой адрес. А веревка — пожалуйста, удави меня, если тебе так уж необходимо. Но аллах покарает тебя за это...
— Я пришел, — еще раз повторил Цагол-Ахмат.
— Мы договаривались, что ты придешь один. — И снова понюхал цветочек.
— Это журналист. Он хочет написать о том, как ты понимаешь честь народа, за которую борешься...
Их разговора Новиков не понимал. Это уж потом ему объяснил все Цагол-Ахмат. Переводчик же стоял, разинув рот и забыв о своих обязанностях.
— Я не хочу говорить с вами один, — сказал Маланг. — Я хочу, чтобы наш разговор слышали мои люди. И я хочу, чтобы вы только отвечали на вопросы... Позже я согласен побеседовать с журналистом. — И обратился к Новикову на английском: — Вы говорите по-английски?
Всех знаний этого языка Новикову хватило лишь на то, чтобы ответить:
— Нет, не говорю.
— Он не лжет? — спросил Маланг Цагол-Ахмата, и переводчик, вспомнив свои обязанности, начал переводить.
— Где его фотоаппарат?
— Он не фотожурналист. Он пишет. Клянусь прахом предков, он не лжет.
— Прошу следовать за мной. — И, не дожидаясь ответа, пошел по широкому распадку — стройный, гибкий и сильный, как молодой зверь.
И они тронулись следом, рядышком друг с другом, словно бы шеренгой. А за ними — трое молчаливых, с автоматами. Новиков успел бросить взгляд на того, кто пристроился за его спиной. Лица не запомнил — поразили глаза, неестественно блестевшие, словно бензин разлили на воде. «Наркоман, — решил Новиков, — такому ничего не стоит спустить курок». Он явственно ощутил спиной автоматный ствол, хотя охранники — иначе их не назовешь — шли шагах в четырех-пяти. Ствол вышиб все мысли из головы; Новиков даже не мог вспомнить ни одного вопроса из продуманных заранее, чтобы задать, если будет возможность, Малангу. Самочувствие у него было отвратное, и Цагол-Ахмат, видимо, понял это. Вдруг повернул в сторону и сел на землю с горестным видом. Маланг обернулся с недоумением. Цагол-Ахмат сказал ему с упреком:
— Твои люди не чтут адатов. Почему он хотел наступить на мою тень? — показал на обросшего парня с винтовкой, шедшего следом. — Разве он не знает, что аллах не примет старика в рай, если безбородый топтал на земле его тень?..
Маланг махнул рукой, и те трое застыли на месте...
Душманы сидели кто на чем под нависшей скалой. Их было человек сто, не меньше. Некоторые были вооружены автоматами, большинство — винтовками, и у каждого на поясе — нож. Лица их хмурились, а в глазах не чувствовалось даже любопытства. Во всяком случае, так казалось Новикову, казалось, может быть, от того, что душманы сидели в тени, а Маланг с гостями стояли на солнечном пятачке. Одежда на многих давно поистрепалась, оно и понятно: в горах не очень-то разживешься халатами. А грабить кишлаки, шла молва, Маланг запрещал.
Сам главарь стоял подбоченясь, даже картинно, и по-прежнему с цветочком в руке. Вдруг резко кинул его, растоптал сапогом, словно окурок. И заговорил — громко и чуть фистуловато, отделяя фразы паузами. Будто отдавал команды.
Душманы зашевелились, зашумели. Маланг оборвал шум окриком. Затем обратился к Цагол-Ахмату:
— Кто даст гарантию, что нас не убьют, если мы придем с повинной?
— Правительство, — ответил Цагол-Ахмат. — Недавно принят закон об амнистии.
Из первого ряда поднялся пожилой душман. Однако чувствовалось, что сила еще не покинула его тело. Был он плотен, невысок и кривоног, с мясистым пшеничным лицом и густой бородой. Пожалуй, у него одного не было никакого оружия, даже ножа на поясе. В руках он держал толстый деревянный посох, с темными сучками у самого держака. Не опираясь на него, подошел к Малангу, тихо заговорил. И все разом настороженно примолкли. Маланг кивнул головой в знак согласия и обратился к Цагол-Ахмату, показав на этого человека:
— Он пришел ко мне недавно и привел тридцать воинов ислама. На каждом из них есть кровь... Может ли власть простить эту кровь?
— Может, — ответил Цагол-Ахмат, — если они докажут верность правительству делом. — И стал добросовестно перечислять условия амнистии.
Новиков заметил, что некоторые душманы удовлетворенно наклонили голову. Видно, эти условия, произнесенные вслух, звучали убедительнее, чем на бумаге...
Между вопросами возникали паузы, никто их не прерывал, и молчание тогда тяготило Новикова. В одну из таких пауз Цагол-Ахмат сказал ему:
— Вы знаете, какая кличка у того старого бандита с палкой? Пегобородый. Да-да, видимо, тот самый, что растерзал кишлачного учителя и братьев вашего знакомого Ширахмата.
«Вот, значит, где он объявился, Пегобородый! — поразился Новиков. — И посох с жалом при нем!.. Разве можно такого простить?.. Да и будет ли его раскаяние чистосердечным?.. Трудно даже представить, как могут перекрутиться судьбы людей в условиях необъявленной войны. И вроде бы все ясно: правые, виноватые, но в этой ясности такой узел, что почти невозможно развязать. А разрубить — рубить по живому, вызывая злое чувство мести, кровавой и долгой...»
Пегобородый подчинился Малангу, но это были два разных человека. Один — ярый враг, другой — заплутавшийся в своих воззрениях и поступках. Даже в вопросах, которые Маланг задавал Цагол-Ахмату, вдруг проступало под личиной мятущегося горца что-то от заигравшегося в опасную игру юнца.
— Могут ли мне дать чин капитана, если мы перейдем на сторону правительства? — спросил он. — А моим помощникам — чин лейтенанта?..
Значит, уже что-то сломалось в нем, значит, принял для себя или уже готов принять единственно правильное решение. Новиков представлял, чего стоило Малангу решиться на такие контакты. Наверняка и сомневался, и колебался. Впрочем, не один он был такой, разве что в числе первых среди многих. Новиков видел таких и разговаривал с ними во время джирги. Они чистосердечно признавали свои заблуждения, клялись в том, что искупят свою вину перед народом. Некоторые из них заявляли о готовности создать отряды самообороны и уже начали их создавать.
Когда он ближе знакомился с биографиями этих людей, то поневоле начинал им в чем-то сочувствовать, понимая, насколько же все для них было сложно и запутано. Как, например, для двадцатилетнего Насруллы.
Он — сын вождя одного из племен хазарейцев и сам вождь. Начальное образование получил в родном кишлаке Уруз-Гани, лицей закончил в городе Мазари-Шариф. Одет в серый европейский костюм, поверх которого наброшен зеленый халат.
Новиков собирался задать ему всего лишь два вопроса: почему он поднял свое племя против народной власти (а под его рукой было ни много ни мало, а двадцать тысяч человек) и что побудило его примириться с властью и даже начать борьбу против душманских банд? Но оказалось, что на простые, как ему казалось, вопросы нельзя ответить просто. Все взаимосвязано: история народа, обычаи, родоплеменные отношения и, наконец, перехлесты, перегибы со стороны отдельных представителей власти (а разве кто застрахован от них в такой круговерти событий?) в самые первые послереволюционные годы.