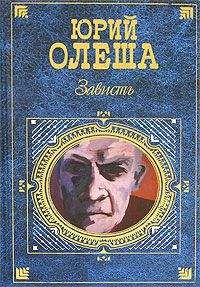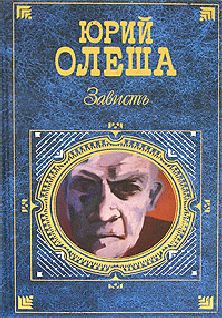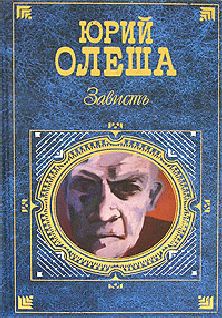Юрий Олеша - Зависть (сборник)
Позже я увижу Маяковского во время его выступления в Москве в Политехническом музее – и тогда образ именно работающего человека еще усилится: он будет снимать на эстраде пиджак и засучивать рукава.
Необходимо, чтобы читатель понял характер славы Маяковского. И теперь есть у нас известные писатели, известные артисты, известные деятели в разных областях. Но слава Маяковского была именно легендарной. Что я подразумеваю под этим определением? То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое… Причем даже не о деятельности его – о нем самом!
– Я вчера видел Маяковского, и он…
– А знаете, Маяковский…
– Маяковский, говорят…
Вот что такое легендарная слава. Она была и у Есенина. По всей вероятности, если основываться на свидетельствах современников, легендарным в такой же степени был Шаляпин. И уж, безусловно, вся страна, да и весь мир смотрели вслед Максиму Горькому…
Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом героя совершалось нечто поражающее умы. Горький пресекал эту славу («Что я вам – балерина?»)… Что ж, и никто из тех, кого я назвал, не заботился о ней специально, она сама шла за ними. Кстати, и Маяковский никогда не кривлялся, не позировал. Я помню, как однажды, увидев чье-то восторженно уставившееся на него лицо, сказал хоть и с юмором, но все же раздраженно:
– Смотрит на меня и что-то шепчет.
Появление его фигуры, на каком пороге она ни появилась бы, было сенсационным, несло радость, вызывало жгучий интерес, как раскрытие занавеса в каком-то удивительном театре. Фигура – высотой до верхнего косяка двери, в шляпе, с тростью.
Я был молод в дни, когда познакомился с Маяковским, однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским.
Общение с ним чрезвычайно льстило самолюбию.
По всей вероятности, он знал об этом, но своим влиянием на людей – вернее, той силой впечатления, которое он производил на них, – он распоряжался с огромной тонкостью, осторожно, деликатно, всегда держа наготове юмор, чтобы в случае чего тотчас же, во имя хорошего самочувствия партнера снизить именно себя. Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек.
Он с удовольствием, когда к этому представлялся повод, говорил о своей матери.
Помню, какая-то группа стоит на перекрестке. Жаркий день, блестит рядом солнце на поверхности автомобиля. Это автомобиль Маяковского – малолитражный «Шевроле».
– Куда, Владимир Владимирович? – спрашиваю я.
– К маме, – отвечает он охотно, с удовольствием.
Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху необычно – иметь собственный автомобиль; и то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказалась его любовь к современному, к индустриальному, к технике, к журнализму, выражавшаяся также и в том, что из карманов у него торчали автоматические ручки, что ходил он на толстых, каких-то ультрасовременных подошвах, что написал он «Бруклинский мост».
Вот мы идем с ним по Пименовскому переулку, помню, вдоль ограды, за которой сад. Я иду вдоль ограды, он – внешней стороной тротуара, как обычно предпочитают ходить люди большого роста, чтобы свободней себя чувствовать.
Я при всех обстоятельствах, в каждом обществе неиссякаемо ощущаю интерес к нему, почтительность, постоянное удивление. У него трость в руке. Он не столько ударяет ею по земле, сколько размахивает в воздухе. Чтобы увидеть его лицо, мне надо довольно долго карабкаться взглядом по жилету, по пуговицам сорочки, по узлу галстука… Впрочем, можно и сразу взлететь.
– Владимир Владимирович, – спрашиваю я, – что вы сейчас пишете?
– Комедию с убийством.
Я воспринимаю этот ответ в том смысле, что пишется комедия, в которой происходит, между прочим, и убийство… Оказывается, что это еще и название комедии!
Я почти восклицаю:
– Браво!
– Там приглашают в гости по принципу «кого не будет», – говорит он.
– Как это?
– Приходите: Ивановых не будет… Приходите: Михаила Петровича не будет… Любочки тоже не будет… Приходите…
Маяковский пил мало, главным образом вино того сорта, которое теперь называется «Советским шампанским», а в те годы называлось шампанским «Абрау-Дюрсо».
Когда я однажды крикнул официанту: «Шампанского!» – Маяковский сказал: «Ну, ну, что это вы! Просто скажите „Абрау“!»
Хотя пил мало, но я слышал от него, что любит быть подвыпивши, под хмельком. Однако это никак не был пьющий человек. Помню вазы с крюшоном. Вот крюшон действительно пользовался его любовью, но это сладкая штука, скорее прохладительная, чем алкогольная, с апельсиновыми корками, с яблоками, как в компоте.
Иногда он появлялся на веранде ресторана «Дома Герцена», летом, когда посетители сидели за столиками здесь, у перил с цветочными ящиками, среди листьев, зеленых усиков, щепочек, поддерживающих цветы, среди самих цветов, желтых и красных, – по всей вероятности, это была герань…
Все уже издали видели его фигуру в воротах, в конце сада. Когда он появлялся на веранде, все шепталось, переглядывалось и, как всегда перед началом зрелища, откидывалось к спинкам стульев. Некоторые, знакомые, здоровались. Он замедлял ход, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак – синий, на его штаны – серые, на его трость – в руке, на его лицо – длинное – и в его глаза – невыносимые!
Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая «Вечерку», вдруг кинул в мою сторону:
– Олеша пишет роман «Ницше»!
Это он прочел заметку в отделе литературной хроники. Нет, знаю я, там напечатано не про роман «Ницше», – а про роман «Нищий»…
– «Нищий», Владимир Владимирович, – поправляю я, чувствуя, как мне радостно, что он общается со мной. – Роман «Нищий».
– Это все равно, – гениально отвечает он мне.
В самом деле, пишущий роман о нищем – причем надо учесть и эпоху, и мои особенности как писателя – разве не начитался Ницше?
Это не то, что было вчера, как говорят в таких случаях, а буквально это происходит сейчас. Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня, на расстоянии лодки, сифон сельтерской воды, газетный лист, трость, уткнувшуюся в угол скатерти, и глаза, о которых у Гомера сказано, что они как у вола.
Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным переписке почти всех его строк.
Что же лучшее? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственного сердца?
Я столкнулся с этой метафорой, читая «Облако в штанах», совсем молодым. Я еще не представлял себе по-настоящему, что такое стихи. Разумеется, уже состоялись встречи и со скачущим памятником, и с царем, пирующим в Петербурге-городке, и со звездой, которая разговаривает с другой звездой. Но радостному восприятию всего этого мешало то, что восприятие происходило не само по себе, не свободно, а сопровождалось ощущением обязательности, поскольку стихи эти «учили» в школе и знакомство с ними было таким, как знакомство, скажем, с математикой или законоведением. Их красота поэтому потухала. А тут вдруг встреча с поэзией, так сказать, на свободе, по своей воле… Так вот какая она бывает, поэзия! «Выскочу, – кричит поэт, – выскочу, выскочу!»
Он хочет выскочить из собственного сердца. Он опирается о собственные ребра и пытается выскочить из самого себя!
Странно, мне представились в ту минуту какие-то городские видения: треки велосипедистов, дуги мостов – может быть, и в самом деле взгляд мой тогда упал на нечто грандиозно-городское… Во всяком случае, этот человек, лезущий из самого себя по спирали ребер, возник в моем сознании огромным, заслоняющим закат… Так впоследствии, когда я встречался с живым Маяковским, он всегда мне казался еще чем-то другим, а не только человеком: не то городом, не то пламенем заката над ним.
В его книгах, я бы сказал, раскрывается целый театр метафор. От булок, у которых «загибаются грифы скрипок», до моста, в котором он увидел «позвонок культуры».
Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму.
– Пожалуйста, – сказал он с серьезной деловитостью. – Какую?
– Медикамент и медяками.
– Рубль.
– Почему же так мало? – удивился я.
– Потому что говорится «медикамент», с ударением на последнем слоге.
– Тогда зачем вы вообще покупаете?
– На всякий случай.
Я был влюблен в Маяковского. Когда он появлялся, меня охватывало смущение, я трепетал, когда он почему-либо останавливал свое внимание на мне… Что касается моего внимания, то оно все время было на нем, я не упускал ни одного его жеста, ни одного взгляда, ни одного, разумеется, слова. Я уже как-то писал о том, что хоть я и был молод в то время, когда общался с Маяковским, но если мне предстояло любовное свидание и я узнавал, что как раз в этот час я мог бы увидеть в знакомом, скажем, доме Маяковского, то я не шел на это свидание, – нет, решал я, лучше я увижу Маяковского…