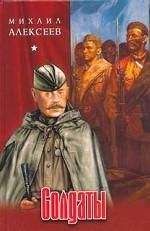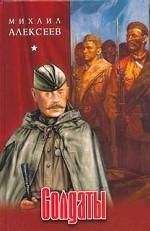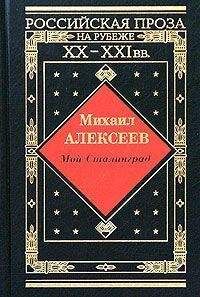Михаил Алексеев - Драчуны
– Три года дали, – и сразу же полез на печку, чтобы укрыться там от материных глаз.
Кровать, однако, молчала: сраженная этой новостью, мать не смогла обронить ни единого слова.
В канун нового года на двор к нам вкатились три телеги, и братья Ефремовы, Егор и Федот, помогли Саньке и Леньке перетаскать в сени и в заднюю избу более десятка мешков с пшеницей и рожью: на Санькины и Ленькины трудодни (а их заработано было очень много) выдали – шутка сказать! – по три килограмма на трудодень сразу, да авансом до этого получено по одному кило.
– Мама, мам! – прокричал я, ворвавшись в избу, – ты только глянь, мам!
Мать лежала на кровати, с которой она уже не могла вставать, раскрыла глаза, повела ими, поморщилась, хотя пыталась, видно, улыбнуться. Сказала тихо, но довольно отчетливо:
– Слава богу. Живы теперь будем.
Она подняла, простерла кверху обе руки, и я понял, что должен положить в них свою голову: мама захотела поласкать, пожалеть меня. Слово «жалеть» употреблялось ею вместо «любить», и в те редкие дни, когда отец смягчался, переставал «дурить» и между ним и нашей матерью водворялся мир, мама, озаряясь тихою, светлой улыбкой, хвалилась тетеньке Анне, своей подруге и душеприказчице: «Мой-то жалеет меня».
Теперь ей захотелось пожалеть меня. Боясь расплакаться, я поскорее уронил голову на ее грудь так, что затылком уперся в ее подбородок.
– Сиротинушка мой, – услышал я ее горячий, прорывающийся сквозь слезы голос.
– Не надо, мам! Родненькая, не надо!.. Я скоро вырасту, выучусь, стану всесторонне развитой личностью! – бормотал я, не зная, как это выскочили из меня эти чужие, много раз слышанные в школе слова о «всесторонне развитой личности». – Не плачь, мам!..
Новый год принес лютую стужу, снега в одну неделю намело столько, что он сровнял дворы с плетнями, которые обозначались лишь торчавшими из них кольями. Медленно угасающую нашу мать кто-то надоумил (не тетенька ли Анна, слывшая на селе знахаркой?) попробовать хориного мяса; хоть оно страсть как вонюче, втолковывала она страдалице, да, слышь, очень пользительно. Мать вбила это в свою голову и стала просить, требовать, чтобы я изловил хоря и сварил его для нее. Одна мысль о хорином мясе вызвала у меня крайнее отвращение, и всего аж передернуло. Видя это, больная заплакала:
– Не жалко тебе, знать, родную-то мамку.
– Да поймаю я тебе его. Обязательно поймаю. Не плачь, мама!
– Спаси тя Христос, сыночка… Глядишь, подымешь меня на ноги, оклемаюсь, можа…
И она затихла, успокоенная.
С вечера выпал еще снег, но потом все стихло. Утром, встав на самодельные широкие лыжи, доставшиеся мне в наследство от дяди Сергея Звонарева, волчатника, я направился в сторону Малых гумен, от которых уцелело каким-то чудом несколько риг. Мне повезло: в полуверсте от дома, на иссиня-белом, переливающемся, мерцающем на солнце, ослепляющем глаза снегу сразу же увидел хориный след; его парные отпечатки четкою строчкой прошивали пушистое полотно, убегали от меня все дальше и дальше, но по прежним опытам я хорошо знал, что очень-то далеко они все равно не убегут – оборвутся скоро у свежей, уходящей наискосок сначала под снежный покров, а потом уж и под землю норы. Случилось так, что нора эта оказалась возле бывшей нашей риги, и, видя, что след зверька прервался тут, не уходил никуда больше от норы, я поставил заячий капкан так, что при всем желании хорь не смог бы обойти его при ночном выходе на очередную охоту. Вернувшись домой, сообщил матери твердо:
– Завтра утром принесу хорька, мам.
Она опять всплакнула, но, видать, от радостного волнения и благодарности. Молвила:
– Спаси тя Христос, сыночка.
С рассветом следующего дня взял с собой Жулика; прошлым утром он напрашивался тоже в спутники ко мне, но я его грубо отогнал, потому что пес своим повышенным усердием мог помешать мне. Теперь он был мне нужен: хорек маленький зверь, но очень уж агрессивный, так просто в мои руки он бы не дался, мог бы и укусить; пускай уж, думал я, Жулик порезвится, повоюет с ним немного, проявит смелость и сноровку.
Пойманный зверь находился в нескольких вершках от своей норы; завидя устремившуюся к нему собаку, он пружинисто подпрыгнул, выгнул спину, поднял, белогрудый, головку с крохотными, как бы подрезанными ушами, оскалился, зашипел и начал делать прыжки в сторону опешившего и явно перетрусившего Жулика.
– Взять, взять его, Жулик! – поощрял я повелительным голосом.
Подстегнутый им пес попытался схватить хорька, но тот изловчился и больно укусил собаку за нос. Жулик взвыл, отпрянул назад и залился плаксивым лаем, глядя то на меня, то на зверя. Пришлось мне прийти Жулику на помощь. Припасенной на такой случай палкой угодил хорьку прямо в голову, тот вытянулся, и тогда-то Жулик, расхрабрившись, запустил в мягкое теплое его тело свои клыки: очень уж хотелось оправдаться передо мною за свою минутную растерянность и трусливый скулеж.
Показав дома убитого зверька матери, сняв затем с него шкуру, саму тушку я выбросил подальше на зады, а для мамы сварил крольчиху, укрывавшуюся под нашим амбаром, которую я приберегал на развод. Но мама не отведала и крольчатины: поднесла кусочек к губам, и выронила его на пол.
Ночью мать померла.
Позванная мною тетенька Анна, спровадив нас в переднюю комнату, нагрела воды, обмыла сделавшееся опять легким до невесомости тело, пришла затем в переднюю, сама открыла большой, синий, оплетенный железными ремнями мамин сундук, отыскала на его дне все, что полагалось покойнице (умирающая успела сообщить ей, где хранилось «смертное»), достала последнюю эту справу, облачила в нее нашу мать и уже с помощью Саньки и Леньки подняла, положила на стол головою к образам.
Я не видел, как они это делали, потому что забился в самый угол на печи, где и стукался, не чувствуя боли, головою о пригрубку, корчась в беззвучном, не могущем никак вырваться наружу рыдании.
Часом позже привел учителя по труду, и Петр Ксенофонтович на скорую руку сколотил из сохранившейся в конюшне колоды гроб.
Свирепые морозы так сковали глинистую землю, что Федот Михайлович и мы, три брата, смогли вырубить в ней топорами, ломами лишь неглубокую ямину; весною, придя проведать материну могилу, я увидел торчавшие из-под земли углы ее гроба. Умываясь не то потом, не то слезами – может, тем и другим одновременно, – я подкопал глины, сделал невысокий холмик, обложил его плитками дерна, а в изголовье вбил живой ветляный колышек, который скоро выбросил побеги, и теперь, много-много лет спустя, я нахожу мамину могилу по старой ветле, разбросившей широко во все стороны руки-сучья, прикрывши прохладной тенью чуть приметный ныне бугорок, – склоняю низко голову и говорю неслышно:
– Прости, родимая, что у твоих сыновей не хватило сил на то, чтобы твое последнее пристанище было и поглубже и попросторнее.
Сивый полынок на том бугре шепчется о чем-то с красноголовым татарником, источая тонкий, пощипывающий глаза и ноздри запашок. А над малиновой головой татарника туго гудит шмель, готовый погрузить свое мохнатое тельце в пушистую, пахнущую медом перину. А в воздухе, прямо над моей головой, висит, трепеща радужными крылами, пустельга, унося меня в невозвратную, щемяще сладкую пору детства – к Ваньке Жукову, ко всему, что было с ним и со мною и чего уж никогда не будет.
20
Весною тридцать четвертого Саньку призвали в Красную Армию, Ленька уехал в Саратов на курсы тракторных механиков, и я остался в доме один, быстро овладевши всеми делами, которые делала, бывало, мать: доил корову (поначалу молоко почему-то попадало мне в рукав рубахи), пек хлебы, блины и лепешки, сам вскапывал огород, для разрыхления земли Алексей Иванович Климов отковал для меня небольшую железную борону, и прохожие останавливались, наблюдая, как маленький, двуногий Сивка влачит ее по отливающим синевой гребням чернозема; сам сажал картофель, тыквы, огурцы, капусту и осенью все это производил в дело – убирал в погреб, засаливал. Занятый множеством дел, первое время я даже не находил времени на то, чтобы тосковать, но потом тоска все-таки подобралась к моему сердцу, и я начал искать общения.
На Хуторе побывал у Васьки Мягкова, тоже оставшегося без отца и матери, Федьки Пчелинцева, потерявшего отца еще задолго до тридцать третьего года. Вместе мы заглянули на заброшенный двор Жуковых, не сожженный соседями. Не знаю почему, но зашел я и в сарай и остановился при входе: в дальнем затемненном углу мне померещился Полкан, я окликнул его, но свернувшийся в клубок пес не ответил. Я сделал несколько шагов в глубь сарая, освоился с темнотой и понял, что передо мной не Полкан, а его шкура.
Пробкою вылетел из сарая и, ничего не говоря товарищам, убежал от Ванькиного дома, оставив Ваську и Федьку в крайнем недоумении.
– Мишка, ты куда-а-а? – крикнул кто-то из них мне вдогонку, но я не оглянулся.
Но теперь знал, что одному мне в доме не усидеть, и я включился во все дела, какие только поручались ребятишкам в те беспокойные годы.