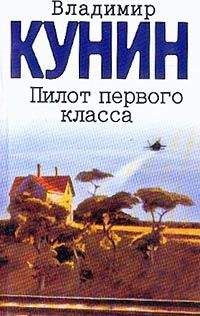Римма Коваленко - Конвейер
— Вы сказали корреспонденту, что у меня слабый контакт с молодежью?
Татьяна Сергеевна махнула рукой:
— Да не волнуйтесь вы. Я же сказала, что мы говорили про жизнь.
Глава девятая
Поезд, который увез Лавра Прокофьевича, был скорым, шел легко, минуя маленькие станции, и на больших долго не задерживался. Отъезжала в сторону дверь купе, бодрый голос женщины в белом халате предлагал: «Кефирчику! Кому кефирчику?» Другой голос принадлежал благообразному старичку — монотонно перечислял названия газет и журналов.
Маленькая старушка в длинной сборчатой юбке ехала в сопровождении внука лет двадцати пяти, плотного деревенского парня, который был с ней терпелив и внимателен и в то же время явно стеснялся ее.
— Вон теленок, — говорила старушка соседям по купе, — а вон речка.
Внук глядел на Лавра Прокофьевича и качал головой: а что с ней поделаешь, ведет себя, как ребенок.
Пошел дождь. Струйки поползли по окошку вагона.
— Овсы пойдут, — сказала старушка. — Такой дождь овсам в радость.
Внук покраснел.
— Какие теперь овсы? Уборка кончается. Ты вот едешь, много овсов видела?
— Я, Ваня, ничего не вижу, — отвечала старушка, — я еду, паровоз бежит, дождик каплет, что тут увидишь.
Щеки в прожилках румянца, ноги в шерстяных носочках, не достают до пола. Лавр Прокофьевич глядел на нее и думал, что таких старушек вместе с их плюшевыми жакетками становится все меньше и меньше. Когда-то и у него была такая бабушка, мать отца, в таких же носочках, с серебряной косичкой под платком.
— Она первый раз в поезде едет, — сказал внук, — думал, бояться будет, а она ничего, даже не удивляется.
— Мне восемьдесят шеш, — закивала старушка. — Которым столько, они уже всем в тягость, а я и за водой, и посуду, и поросенку…
— «Шеш», — внук, страдая, опять покраснел. Достал из чемодана сверток с едой, развернул, пригласил присоединиться соседей. Старушка взяло яйцо, огляделась, обо что бы его разбить. Увидела никелированный крючок над головой, вытянула руку, прицелилась и стукнула. Четвертый пассажир, синеглазый, седовласый красавец, одобрительно засмеялся:
— Бабуся нигде не пропадет. Отдыхать едете или в гости?
— Вот, — старушка локтем показала на внука, — он удумал. Кофту купил, туфли две пары.
— Тапочки, — поправил внук.
— На море, говорит, поедем, будешь потом вспоминать.
Оказалось, что они едут в тот же санаторий, что и Лавр Прокофьевич.
— Он еще таким вот был, — старушка вытянула вперед коричневую руку, показала, каким был внук, — в первый класс ходил, а уже пообещал: я тебя, баба, как вырасту, на море, на курорт повезу. С тех пор в колхозе, что ни лето, люди спрашивают: когда, Ваня, бабушку на курорт повезешь? Шутили, значит. А он взял и повез.
— Повез, — вздохнул внук, — а ты бы помолчала. Люди в дальней дороге отдохнуть хотят, о своем подумать.
— Ну что вы, — успокоил его Лавр Прокофьевич, — хорошая у вас бабушка, и разговор ее интересный.
И синеглазый пассажир вступился за бабушку:
— Не обрывайте старушку, пусть говорит.
От ее говора, от того, с каким терпением, хоть и смущаясь, обращался с ней внук, неспокойно стало Лавру Прокофьевичу, шевельнулось в душе раскаяние: зачем еду, нехорошую поездку затеял.
Путевка, которую ему предложили в месткоме, смутила не своей дешевизной, не первым осенним месяцем, на который падала пора фруктов на юге, — ударил в грудь, заставил биться сердце адрес санатория. Словно рок какой-то смеялся над ним и дразнил: не будет второго такого случая. Не будет еще такого шанса повидать Полундру, сказать ему пару веских слов. Какие это будут слова и зачем ему заглядывать в глаза морячку Лешке, Лавр Прокофьевич не знал. Знал только одно, неспроста город, где санаторий, тот же, что был на письмах Полундры. Может, не живет уже морячок по этому адресу, распрощался со своим прогулочным пароходом «Витязь», на котором якобы работал механиком, а может, и не распрощался.
Ни старушка, ни внук, ни тем более седовласый красавец не догадывались, какие громы и молнии бушевали в груди их добродушного на вид, немолодого соседа. А Лавр Прокофьевич смотрел в окно и там, за бегущей грядой лесопосадки, видел себя, решительного, неумолимого. Вот он подходит к Полундре, обжигает его своим мужественным взглядом и спрашивает: «Что же ты, морской волк, жизнь свою так разменял, от любви отказался? Татьяна тебе последние рубли посылала, семью с малым ребенком бросила, в больницу к тебе за тридевять земель полетела, а ты все стороной, стороной, как побитый пес, бежал. Жизнь, Полундра, не задворки. Дождался ты, добегался — як тебе приехал. Вот тебе твой последний шанс: покажи свое настоящее лицо, поступи, как мужчина». Как должен был поступить Полундра, что сказать в ответ, Лавр Прокофьевич не знал. Но думалось так, и он думал.
Думай не думай, а повернется иной раз жизнь так, что никакого объяснения ей не найдешь. И мчишься не в свою, в непонятную сторону, и схватить за рукав тебя некому: стой, охолони. Вот и он едет вроде бы в санаторий, по путевке, чин чином, а на самом деле совсем не туда.
Старушка сняла платок, на затылке и в самом деле свернулась колечком серебряная косичка. Голубые бирюзовые бусы выбились из-под кофточки, и что-то в ней обозначилось от той давно ушедшей жизни, когда она была молодая и бусы эти не просто висели на шее, а прибавляли ей красоты.
— Бабушка, — сказал седовласый пассажир, — бусы, наверное, жених вам на свадьбу подарил?
— У-у-у, — бабушка улыбнулась, — мой жених бедный был. Нас поп не хотел венчать. И родители мои против были. Мы к родне евойной сбежали на хутор, они нас приняли.
— А почему поп не хотел венчать?
— Нельзя это говорить, а ты спрашиваешь, — рассердилась старушка. — Тяжелая я была. При закрытых дверях и обвенчал нас поп, деньги взял и в книгу записал.
— Всюду страсти роковые! — Пассажир оживился. — И как потом? Долго любили друг друга?
— А как же, — бабушка вытащила бусы на кофту, разгладила подол юбки на коленях, — считай, всю жизнь и любили. Только работа нас не любила. Иссушила на солнышке. Ты вон какой седой да дебелый, а мой мужик в твои годы уже спиной кверху ходил.
Седовласый красавец смутился: дородный — куда ни шло, а то дебелый. Но любопытство взяло верх над обидой.
— А все-таки бусы кто подарил? Старинные бусы, бирюзовые.
— Бусы, — старушка помолчала, что-то вспомнила, — бусы Макар принес. Вдовел два года, а потом принес бусы. Сватал меня. Я бусы взяла, а замуж идти передумала. Потом младшая дочка, его мать, — старушка кивнула в сторону внука, — носила ему бусы обратно, а он не взял.
— Выходит, вас уже с детьми сватали. А муж умер?
— Перед самой войной помер. А сыны — Миколай и Артем — с войны не вернулись. Я с дочками осталась…
— Если сейчас восемьдесят шесть, — подсчитал пассажир, — то в войну вам все пятьдесят было. Неужели в такие годы вас сватали?
— Как раз после войны Макар с бусами и приходил. Ему уже самому за пятьдесят было. А ты, видать, жениться надумал, а не решаешься, годам своим не веришь. Так я тебе скажу: не бойся. Бойся глаза завистливого, безделья бойся, а женщины, которая с тобой один хлеб есть будет, чего бояться?
— Бабушка привыкла среди своих, — внук не одобрял этой беседы, — нет понимания, что не везде можно вести себя как дома.
Лавр Прокофьевич не вмешивался в разговор. Седой, холеный мужчина был от него далек, с такими он дружбы никогда не водил. И когда тот от желания поговорить обратился к нему с вопросом: «Простите за беспокойство, никак не угадаю вашу профессию. Вы кто?» — Лавр Прокофьевич, собрав свои малые крохи высокомерия, ответил: «Автомеханик. А вы?»
Мужчина зашевелил пальцами, застучал ими по коленям, занервничал. Не ожидал, что наступит и его черед отвечать на вопросы.
— Есть профессии, о которых распространяться не принято.
Лавр Прокофьевич отвернулся к окну, решив про себя: гусь. А бабушкин внук, выставив на пассажира почтительные очи, сказал, краснея:
— А я подумал, что вы повар или хирург.
И все-таки хорошо они ехали. Бабушка уснула на нижней полке. Внук забрался на верхнюю и тоже уснул. А Лавр Прокофьевич неожиданно разговорился с седовласым пассажиром, который хоть и молчал о своей профессии, но зато из личной жизни не делал тайны. Они стояли в коридоре у раскрытого окна, и пассажир рассказывал, как он шестнадцати лет убежал на фронт, попал в артиллерийскую часть, с ней дошел до Берлина. Отец, как ему сообщили, погиб в сорок первом, а мать умерла в эвакуации. Сиротой прожил он четыре года, а потом оказалось, что отец жив и мать жива, у обоих разные семьи. Каждый вступил в новую жизнь, думая, что никого от старой семьи не осталось.
Вот так распоряжается судьбой случай, все в горе, и никто не виноват. Лавр Прокофьевич уже по-другому относился к дорожному спутнику, не сердился на его вопросы: кто из своей жизни не делает тайны, имеет право интересоваться чужой.