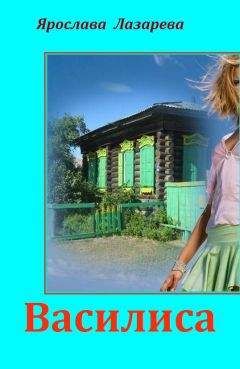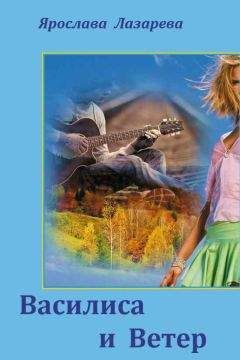Борис Пильняк - Том 4. Волга впадает в Каспийское море
Иван Карпович кривлялся и дергался. Иван Карпович пересек дорогу Любови Пименовне.
– Барышня моя ясная, товарищ Любовь Пименовна! – завопил тоскливо Иван Карпович. – Не надо, не надо! – Вам говорю, – не надо! Не любите его! Он пришел и даже не посидел, и побег в номера, а в номера он девку из Москвы привез с собой накрашенную, она его там дожидается. Барышня моя милая, товарищ Любовь Пименовна, плачьте! он мракобес, он с братом моим Яшкой хочет взорвать монолит!.. – Ликуйте, товарищи, люди встали за честь, за коммунизм, за благородство!.. И вы плачьте, Ольга Александровна, – и ты, Мишка!..
– Как вы смеете так говорить?! – крикнула Любовь.
– Иван Карпович, о чем вы говорите!? – возмущенно крикнула Ольга Александровна и пошла к охламону со взором, просящим помилования.
Охламон прикладывал руки к груди, дергаясь.
Город Коломна, ныне пошедший в войну, – николаевский, Николая I город, ибо с лет Николая умирала Коломна. Гостиница на Астраханской улице здравствовала широкопазым николаевским умиранием в ряду других домов, таких же каменных и плотно усевшихся на землю. Номера в гостинице смотрели на Коломну подслеповатыми бастионными оконцами. На площади против номеров умирали развалины кремля, на бывшей Дворянской улице в кремле пил по ночам со Христом водку музеевед Грибоедов, – астраханская ж улица тяжелых домов и темных подворотен строилась шеренгою вывесок, организующих ту войну, которой воевала Россия. Земля закатывалась к вечеру, вороны над городом растаскивали день, души разрушения, и переставали ныть колокола, плач старины. В закат подул ветер, понес тучи, земля посерела, и дождь пошел августом. Так бывает на земле, когда вдруг, сразу, от мелочи, или приходит весна, или приходит осень, незаметные еще десять минут тому назад.
Полторак казался очень маленьким под николаевскими гробами домов. Полторак подпирал коломенскую старину. Полторак шел очень медленно, толкаясь о красные вывески социализм. Улицы пустели перед дождем. Полторак упирался в улицы.
Надежда Антоновна лежала на кровати, когда Полторак вошел в бастионную тишину номера.
– Это свинство, – сказала Надежда Антоновна, – вы позвали меня, чтобы показать строительство, чтобы быть вместе, и вы все время куда-то уходите, оставляя меня одну.
Полторак ничего не ответил, налив себе вина.
– Впрочем, это смешно, – это одиночество. Этот гроб гостиницы, этот древний вой над городом, эта древняя площадь, – это все мое. Я видела какие-то древние похороны. Процессия проходила под окнами. Впереди несли гроб, и сзади, рядами шли женщины, больше тысячи. – Слушай, – эта древняя площадь, этот древний вой колоколов и – это древние женщины, эти пролетарки. Я смотрела, они сделаны из камня, эти бабищи. Их загар на лицах и на руках сиз, как слива, они совсем не белокожие. На них были одеяния, которым тысяча лет от роду, плахты и паневы. Они были босы. Они древни, эти бабищи. Это процессия скифов, которой от роду – древность. Впереди несли гроб, – какую старину они хоронили, если они пошли за гробом, эти бабищи в паневах в безмолвии? – Я весь день дремала и думала.
Надежда Антоновна лежала полуодетой в постели, она поднялась, накинув на плечи ночной халатик, выпила вина, села к окну.
– У Островского и Гоголя провинциальное окно играет роль сюжетной завязки и московской «вечерки», – и на самом деле очень любопытно в этой оконной газете времени. Я не говорила тебе, Евгений. Понятно, что эти женщины хоронят древность. Я еще не знаю, но, кажется, это так, – я плохо знаю, что такое мораль, или у меня она своя. Под эти похороны я думала о том, что кто-то там умер, но у меня будет сын, и я не буду знать, кто его отец, – их было несколько, и я беременна. И это неважно, кто отец. Это моя мораль. Я мать – и это очень древне. Этот умерший, которого хоронили, которого я не знаю, – быть может, он есть то, что дало мне право иметь ребенка так, что я не знаю его отца. Их было несколько, от кого я могла забеременеть.
– Хоронили жену инженера Ласло, повесившуюся вчера утром, – хмуро сказал Полторак.
– Она повесилась? отчего?
– Не знаю. – Ты не знаешь, кто отец твоего ребенка? – ты не знаешь, какую древность хоронили эти бабищи? – они хоронили нас, – тебя, меня, нашу культуру!..
– Это хуже для моего сына.
Полторак сел рядом с Надеждой Антоновной.
– О чем ты говоришь, Надежда? – сказал он. – Ты спала, я бодрствовал. Они хоронили нас. Да, это хуже для твоего сына, потому что они хоронили и его. Но все равно. Я бодрствовал, и это не страшно, в бессоннице приходит непонятное, фантастическое, как эти похороны. Ты читаешь газету времени. У нас будет гофмановская ночь пира во время чумы, за теми флажками, о которых я говорил утром. Я совсем, совсем болен. Я брежу. Я говорил сегодня с рабочими, они хлопали меня по плечу, как дурака, – и они есть Гофман, отравивший нашу реальность.
Постучали в дверь. Вошел курьер.
– Телеграмма.
В телеграмме значилось:
«Сейчас умерла Вера мы обе говорим тебе будь проклят мерзавец».
В Москве на Владимире-Долгоруковской, в квартире Евгения Евгеньевича Полторака, величествовали красное дерево, строгий покой, тишина. Квартира на Живодерке была – «домом». В кабинете на письменном столе давили стол бронзовые подсвечники и наяды чернильного прибора, также бронзового. В этих подсвечниках горели свечи. На павловском диване в кабинете умирала Вера Григорьевна. Гардины охраняли тишину. И еще горела свеча на столике около дивана, среди лекарств. На столике лежал серебряный александровский звонок.
Вера Григорьевна была одна. Глаза ее были закрыты. Покойная тишина стыла в кабинете, в неподвижной ночи. Вера Григорьевна, красавица, лежала неподвижно, очень покойно, руки ее легли над одеялом. И тогда она позвонила, долго дотягиваясь до звонка, не открывая глаз, чуть слышно. Вошла Софья Григорьевна, со свечою в руке, в ночном халате. Старшая сестра казалась много утомленней и непокойней, чем младшая.
– Ты звонила, Вера?
– Да, я умираю, Софья. Я чувствую, как в меня входит смерть. – Вера Григорьевна говорила беззвучно, глубоким шепотом, чуть шевеля губами. – Я уже не человек. Мне покойно думать, что сейчас последний раз в жизни, – она повторила, споткнувшись на слове, – в жизни я бралась за звонок.
Лицо Веры Григорьевны оставалось очень покойным, она не открывала глаз, ее губы чуть-чуть шевелились. Она замолчала. Сестра склонилась над нею, губы сестры скосились судорогою боли. Сестра поставила свою свечу на столик к дивану и потушила. Свет потухающей свечи скользнул по лицу умирающей, – Вера Григорьевна чуть-чуть улыбнулась.
– Позови Евгения, он здесь, я слышу, – прошептала Вера Григорьевна.
– Его нет, он уехал по делу в Коломну, – ответила Софья Григорьевна и оглянулась на комнату.
На письменном столе горели свечи, догорали, забытые после доктора, который рецептов уже не писал. Софья Григорьевна поднялась, чтобы погасить свечи, но ее остановила Вера Григорьевна, – она опять шептала и улыбалась. Софья Григорьевна склонилась над сестрой.
– Все бывает страшно первый раз, слышишь, Евгений. Это сказал ты, – ты не прав. Что ты сделал, Евгений? – что ты сделал? – ты меня не любишь, разве ты меня любишь? – Мне стыдно перед Софьей, мне стыдно перед всем миром… Я разбудила тебя, ты спал… я так давно зову тебя…
Софья Григорьевна еще ниже склонилась над сестрой. Сестра бредила:
– Ты сказал, Евгений, что добродетели, верности, справедливости – все это ничто перед нулем смерти, – нет, ты не прав перед лицом живущих, перед лицом Софьи и детей. Это мерзость, что я отдалась тебе, умирающая, мертвая, – это мерзость, что ты сделал со мною, Евгений, милый… и это мерзость, что я думаю о тебе, как о самце.
Софья Григорьевна крикнула:
– Вера, ты бредишь, перестань, что ты говоришь! Вера Григорьевна открыла глаза. Взгляд ее стал осмыслен, внимателен, никак не сонный.
– Нет, я не брежу, Софья, – сказала она громко, твердо, злобно. – Я умираю, Софья. И это не бред, что в поезде Евгений Евгеньевич овладел мною, – ты понимаешь, о чем я говорю. Мне даже не стыдно за себя, я нуль, – мне страшно за твою жизнь, Софья, за твою честь. Он трус и вор. Скажи ему, что он мерзавец. Мне стыдно перед тобою, Софья, – мне страшно за тебя.
Вера Григорьевна закрыла глаза, задохнувшись. Это было в неподвижную полночь. Софья Григорьевна очнулась в час, когда земля проходила полднями. Она не помнила времени. Свечи на письменном столе и около дивана выгорели, исчезнул даже чад. Вера Григорьевна умерла. Живая сестра опустила голову на грудь мертвой сестры.
И первое, что сделала Софья Григорьевна, очнувшись, – она написала телеграмму и понесла ее на телеграф. На Живодерку лил дождь, асфальт на тротуарах отражал дома, и дома, отраженные в асфальте, были подобны платоновским теням, где подлинные дома на подлинных улицах – идеи. Дождь обложил Москву мокрыми киселями облаков. Радиокричатели неистовствовали российским гопаком.