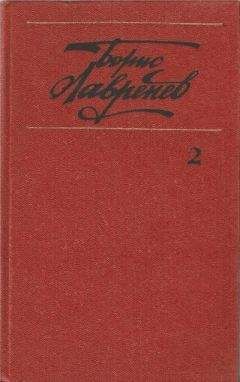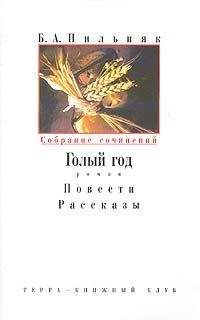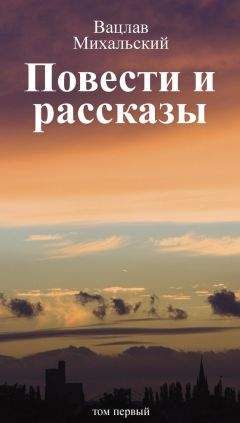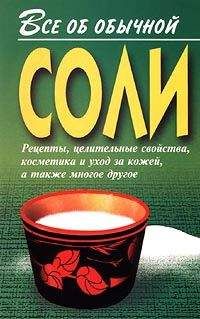Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы
— Оно верно, — прошамкал в бороду Евстратыч, — рабочему машина допрежь всего, ну, а нашему брату, мужику, ни для какой потребы! Что ты в тайге с машиной наворочать, товарищ Завихляев? А?
Завихляев покрутил головой.
— Ишь упрям ты, ровно пень таежный! Погоди! Лет через десяток, как пройдем мы по твоей тайге с такой машинкой. Трактором называется, разное может делать. Возьмет твою тайгу и начнет рвать соснины трехобхватные, как ты лебеду выпалываешь рукой. Вот когда сделаем тебе на месте тайги ровное поле под пар — тогда поймешь, «кака в машине силишша», шишига ты дремучая!
Старик прислушался. Железный лязг под полом становился реже л резче.
Евстратыч встал.
— Должно быть, что станция… Ровное поле говоришь, сделать, мила-ай? Сделай, сделай. Углядим — поверим в твою машину. Мы, мужики, народ упористый: пока не пощупам — не поверим. Разговор твой хороший, а ты мне раньше ситчику на порты отпусти, а машина потом…
— Эх, душа ваша мужицкая, темная! Все себе только. Ситчику! А у других, может, и рядна нет.
Теплушка дрогнула на стрелке. В щель мелькнули тусклые огни в замороженных окнах. Евстратыч похлопал по бедрам.
— Оно так! Каждый допрежь всего к своей плоти заботчик… А ты, товарищ Завихляев, сходил бы на станцию. Может, дадут покусать чего ребятам?
Завихляев отодвинул дверь и спрыгнул в ветряной свист. Старик посмотрел ему вслед, покачал головой:
— И-эх, народ пошел какой! Цены себе не знат, не жалеет себя. Сам без портов, а для обчества на щиблеты старается. Чудные дела!
4Оранжевые блики от ламп ложились жирными пятнами на острые скулы Завихляева и прыгали на них.
Нагнувшись над столом, упершись жесткими глазами в закутанную дохой до глаз фигуру, Завихляев бросал слова, нервно цепляясь пальцами за край стола:
— Вы не имеете права отказывать в довольствии, товарищ! Не для собственного удовольствия катаемся. Вы прочли документы, видите, что команда сопровождает чрезвычайно важный для республики груз. Красноармейцы голодны. Денег нам не могли дать на всю дорогу. Полк — не казначейство. Я буду жаловаться на саботажное отношение.
Доха вскинула глаза и равнодушно сказала:
— Жалуйтесь хоть самому черту! Много вас таких сопровождающих тут шатается каждым поездом. Словчились с фронта дернуть? Сопровождение груза? Без вас не доедет? Отправляйтесь обратно в свою часть!
Завихляев дернулся от обиды.
— Это мне как же понимать? — сказал он, повышая голос. — Кто это с фронта словчился дернуть? Я на фронте два года без передыху, а ты вот видал фронт? Закутал морду в доху ворованную и думаешь, что цаца!
Доха вскочила.
— Что? Вы мне тут партизанскую демагогию не разводите, товарищ, а то отправитесь в ящик! Вы видали, как я доху крал?
— Видать не видал, а по вашему обращению так полагаю.
— Потрудитесь оставить комендантскую и больше не являться! Вы вообще подлежите задержанию и отправке в особый отдел, как незаконно покинувшие часть, а вы еще имеете наглость требовать довольствия!
— То есть, как же это незаконно, ежели у меня на всю команду документы имеются по форме: командировка, литера, аттестаты?
— Да что у вас дубовая, что ли, башка? На основании приказа Реввоенсовета, который вам должен быть известен, никакая часть без утверждения Ревсовета армии не может командировать людей в центр. А кто вас командировал? Полк? Здорово! Какой-то полк будет командировать людей в Москву! За это одно под суд, а вы еще довольствия требуете. Этак каждый взводный будет командировать красноармейцев в Америку! Убирайтесь, пока я вас не арестовал!
— Так вы отдайте под суд комиссара, ежели он неправильно сделал, а людей, которые свое дело исполняют, чтоб голодом морить, так это ж бюрократичный саботаж, и ничего больше.
Доха окончательно вспылила:
— Последний раз говорю вам, товарищ: убирайтесь, пока целы! Иванов, сходите за агентом особого отдела. Если вы не уйдете, я отправлю вас в особняк, как дезертира!
Завихляев сжал кулаки и шагнул к дохе. Но вспомнил: «А машина? Арестуют, пока разберутся, а с машиной опять что-нибудь стрясется». Махнул рукой.
— Черт с вами! Уйду! Может, как-нибудь до следующей станции доедем, там кто поумней найдется. Счастливо оставаться!
— Сволочь! — бросила вслед хлопнувшей двери доха.
5— Нет таких положениев, чтоб не кормить командировочных, которые сопровождающие…
— Пятые сутки без хлеба…
— Даешь жратво!
— Тише, ребятки!..
— Служба, вошь ее раздави! Как кровь лить, так это в момент, а как кормить, так по месяцу волынят!
Голоса гудели злобно и настойчиво:
— Требуй сполна!..
— На муху коменданта!..
— Какой ты командир, ежли хлеба достать не можешь?
— Тише! — крикнул Завихляев, свирепея.
— А ты хто: генерал? — отозвалось из угла теплушки, но все же крики затихли.
— Дело такого рода, товарищи, что если рассудить, комендант, значит, скотина. Я от этого не отказываюсь, но по закону выходит, что его правда. Потому, совершенно верно, как полк часть маленькая, и ежели каждый полк начнет людей посылать от себя в Москву, то получится разврат и дезорганизация. Это уж Яков Артурыч, комиссар, прохлопал, значит. Оно, конечно, если б комендант не собака был, а свой рабочий человек, то не допустил бы людей по всей строгости закона с голоду подыхать. Ну так что ж с человеком сделаешь, если он скотина? Нужно, братики, до следующей большой станции еще потерпеть. Больше терпели!
Сразу взорвало деревянные стенки криками:
— К ляду терпеть!
— Добро б на хронте терпеть, а то в командировке, по закону…
— Полагается, чтоб кормить…
— Забирай, робя, винтовки! Сыпь коменданта на муху брать!
— Зажирел, гад, на сытости…
Бросились к винтовкам. Завихляев сорвал наган с ремня. Ощерился.
— Не позволю! Первому, кто с винтовкой сунется, — пулю вворочу! Не самовольничать! Белякам под руку играете?
Тряс револьвером, и по лицу было видно, что выстрелит.
Сумрачно и нехотя поставили винтовки в углы. Избегали смотреть в лицо Завихляеву. Рябоватый нескладный детина виновато улыбнулся, сказал простецким, разрядившим напряженность голосом:
— И то! Что мы — разбойники, шпана? Пойдем, ребята, по мужикам просить жратвы. Село, видать, богатое. Не дадут же людям с голоду подохнуть.
— Дело! Собирайся, рать честная, Христа славить. Оно и впрямь сочельник подпирает.
Выпрыгивали из теплушки с хохотом, угрузая ногами в снегу, подхватывая вещевые мешки.
Завихляев тоже выпрыгнул из вагона. Рядом — буфер к буферу — стояла, поблескивая темным багрянцем свежей краски, теплушка «3б. 213 437».
Завихляев подошел, прижался щекой к ледяному дереву.
Там, за топкой шелевкой, молчало во временной дреме огромное сердце машины. И Завихляеву показалось, что в снеговой тишине, на запасном пути он слышит внутри легкие, чуть уловимые содрогания этого сердца.
Затаив дыхание, слушал несколько секунд, оторвался, застенчиво улыбнулся обветренными губами и, смотря в дымный хоровод снежинок, бросил крепко и коротко:
— Довезу, родная!
6Поезд тронулся и проходил семафор, тяжело повизгивая на обледенелом подъеме, а двоих из команды не было.
Завихляев дергался по теплушке, спрашивал:
— Куда ж могли деваться? Оповестил я всех вчера, что нынче в семь уйдем. Неужто забыли? Вот раззявы, олухи непеченые! И без документов. Попадут в работу!
В теплушке было странное любопытствующее молчание.
С нар смотрели на волнующегося командира несколько пар лукавых глаз.
— Кто их видел в последний? Кто с ними по селу ходил? Ты, Блакитный, что ли?
— Ходив, та я их на площади кинув. Не знаю, куды пишли. Мабудь, за околицю к дивчатам.
— Ах, собачьи дети! Говорил же, за село не выходить. Ну, как теперь отвертятся, ежели на контроль наскочат?
— Не наскочат! — отозвался вдруг голос из глубины теплушки.
— Как не наскочат?.. Вернутся на станцию, и готово.
— А ты не беспокойся, товарищ командир! Они не вернутся. Они знают, куда иттить!
Завихляев остановился и внимательно поглядел в угол.
— То есть как это мне понимать?
— А так! Парни-то здешние. У их дом в тридцати верстах. Вовсе, значит, не случаем отстали, а просто по домам двинули. Голодать кому охота? Добро б за что!
Завихляев ринулся к говорившему и вытащил за шиворот к свету.
— Ты знал, знал, стервец? Что ж у тебя язык пришило? А ты знаешь, как можешь ответить по военному закону за покрывательство дезертиров? А?
Парень отряхнулся от завихляевской руки и осклабил огромный щелистый рот.
— Чего знал? Знать ничего не знал, — слыхал, промеж себя гуторили, что дома хорошо бы побывать, баб помять. Ну вот, значит, и сбегли!