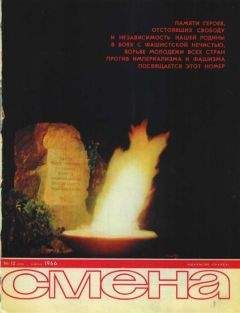Борис Горбатов - Мое поколение
— У тебя сердце глупое, — сказал старик Кружану. — Глупое, раз оно к делу не лежит.
Он сердился, это было не похоже на его обычное отношение к молодежи. Он отечески нежно любил ее. К этой любви примешивалась гордость: «Вы живете в новом мире, юноши. Этот мир завоевали для вас мы, старики. Живите же ладно! Живите же лучше и чище нас». А он, Кружан, вот как живет! Ну, что ж! Будем говорить как следует. Два члена партии стояли перед ним. Один говорил, что у него к политике партии не лежит сердце.
— В партии давно? — отрывисто спросил он Кружана.
— С января двадцатого.
— Взыскания были?
— Были… — Кружан высоко поднял голову. — Я был исключен.
— За что?
— Расстрелял десяток сволочей.
— Без суда?
Кружан пожал плечами.
— И что ж? Гордишься? — зло усмехнулся Максим Петрович. — Ты и сейчас еще гордишься? Нечем, нечем. Гнусно… Мальчишка…
Он сердито прошелся по комнате, потом подошел к Кружану.
— Что читаешь?
— Все читаю. Что приходится… — растерянно отвечал Кружан.
— Что вчера читал? Молчишь? Ничего не читал. Болтун! Неуч! Политика партии не по сердцу?! Да понимаешь ли ты ее, политику-то?
Кружан стоял, опустив голову.
— Пьешь? — хрипло спросил старик.
— Пью, — пробормотал он.
Он хотел сейчас только одного: провалиться сквозь землю. Старик выворотил его наружу и показал всем: вот каков Глеб Кружан, глядите! И ему самому показал.
Кружан мрачно жил последние полтора года. Но было горькое утешение: вот как живет герой, вот до чего довели геройского комсомольца Глеба Кружана! Он любил и жалел себя, и чем больше жалел, тем больше любил. А сейчас ненавидит себя. Он себя не находит, он костей своих даже не ощущает — слякоть, слякоть какая-то.
Старик уже набросился на Рябинина:
— А ты? Ты что делаешь? Ты почему раньше не приходил? Что думал? Ох, возьмусь я за вас, прекрасная молодежь! На бюро горкома партии ваш отчет… Немедленно… Уж не обижайтесь, возьмусь я за вас!
— Возьмитесь, Максим Петрович! — взволнованно сказал Рябинин. — Я свою вину признаю.
— То-то! — Старик подошел к столу и налил себе чаю в чашку. Прихлебывая остывший чай, он исподлобья посматривал на Кружана: тот стоял, отвернувшись к окну, плечи его вздрагивали. — Ты хныкать брось! — тихо произнес Максим Петрович. — Хныкать легче всего. Жизнь твоя у тебя в руках, голубок, поворачивай ее куда следует. — Он отхлебнул еще глоток, посмотрел на Рябинина и, хмурясь, добавил: — А девушку я вам вовек не прощу. Девушку зачем обидели? Девушку эту беречь надо. Это золотое поколение растет.
Кружан и Рябинин вместе вышли на улицу. Им было по дороге, — оба жили в «коммуне номер раз», — они пошли рядом. Шли молча. Рябинин начал свистеть.
Так, не разговаривая, они дошли домой и молча же разошлись по комнатам.
Мы поджидали Рябинина всей компанией: я, Семчик, Алеша. Сияющий Алеша пришел сообщить, что вчера единогласно, волею всего народа, он, Алешка Гайдаш, паренек с Заводской улицы, избран ответственным секретарем ячейки комсомола, что сегодня он уже полез в ссору с Кружаном, в ссору до победного конца.
— Бенц, не обижайся, что ячейка наконец-то возьмется за горком и встряхнет его. Какой план работы сочинили! Какие богатые дела мы будем делать! Организуется школа фабзавуча! Создаются вечерние курсы! Открываются политкружки! Комсомольцы забирают под свою высокую руку весь заводской клуб! Вечера! Спектакли! Лекции! — Алеша выпалил все это единым духом, и Рябинин из всего этого смерча слов понял только одно: цветет, растет, прет в гору Алеха.
— Ну-ну, — сказал он молодому секретарю. — Все отлично. Смотри, теперь не зарвись.
— Чай! — закричал я. — Пир на весь мир! Рассказывай, Рябинин, о чем говорил с Кружаном?
Мы притащили огромный кондукторский чайник и торжественно поставили его на стол. Пар клубами валил из носика и смешивался с волнами табачного дыма. Мы дымили, как добрые паровозы. Хриплыми, простуженными голосами мы пели наши песни. Запевал Рябинин. Он стоя дирижировал хором.
— Басы, тише, — шипел он, хотя во всем хоре не было даже баска.
Потом мы снова сели пить чай. Мы безумно кутили. Мы пропили весь сахар, какой у нас был.
Но я щедро кричал:
— Пейте, гости дорогие! Славьте тороватых хозяев! Кипятку много!
В самый разгар веселья к нам вдруг вошел Кружан. Он вошел как-то нерешительно, — мне показалось, что он, вероятно, долго раздумывал у двери перед тем как войти. Увидев шумную компанию, он нахмурился. Он пришел, очевидно, чтобы что-то сказать Рябинину. Важное что-нибудь. Мы стихли.
— Я спичек хотел… Спичек нет… понимаешь? — пробормотал он.
В руке у него была незажженная папироса. Рябинин зажег спичку и подал ему.
— Может, тебе всю коробку дать?
— Коробку?.. — переспросил Кружан. — Да… Давай коробку…
Он вдруг заметил Алешу.
— А… ты зачем… здесь? — удивленно спросил он.
— Я — в гости. А что?
— К тебе в гости? — спросил он у меня.
— Ко мне и к Рябинину.
— Ах, вот что, — усмехнулся он. — Ну, ничего… Мешать не буду. Я за спичками… Счастливо!
Он пошел к двери, потом вдруг остановился, хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и вышел.
Алеша задумчиво посмотрел ему вслед.
«Неужели и мне когда-нибудь придется так?» — вдруг ужаснулся он.
Но эта случайная мысль прошла, не затмевая его радости. Он встряхнул лохматой головой и крикнул:
— Споем, ребята! Нашу! Комсомольскую!
И первый поднял песню.
3Я расскажу когда-нибудь, как и почему начал писать. Ребята смеялись надо мной:
— Сережа, брось. Ты Пушкиным не будешь!
Посмеивался и Валька Бакинский, признанный авторитет в этой области, читая мои опыты.
А я упрямо исписывал бумагу.
Когда я затеял писать книгу о моем поколении, сведущие люди стали отговаривать меня.
— Вам сколько лет? — спрашивали они насмешливо. — Куда вы лезете? Вы доживите сначала до тех годов, когда осмысливают свою молодость, и тогда уж валяйте пишите.
Я чувствовал, что сведущие люди правы. Я отбрасывал прочь в сторону планы «Моего поколения». Я хотел найти другие темы, других людей. Но какие у меня другие темы? Мне оставалось бросить перо и ждать седин.
Но и ждать я не мог. Они измучили меня, мои земляки и сверстники, они толпились вокруг, они росли вместе со мной и на моих глазах, я слышал, как хрустели их кости, — и мне мучительно хотелось писать, писать о них, только о них. Украдкой от сведущих людей я писал свою книгу.
«Ребята! — мысленно обращался я к своим сверстникам — к Алеше, Павлику, Юльке, Моте. — Ребята, вы уж простите меня! О вас должен был бы писать писатель опытный, убеленный сединами. Вы стоите этого. Мы стоим того, чтобы о нас хорошо написали. Но что же делать, ребята: о нас не пишут! И вы не ругайтесь уж, что взялся я. В свое оправдание я могу сказать, что сделал все, что умел. Я вложил сюда все, что у меня было. Вот я весь — больше у меня ничего нет, я все отдал. Страшно ли мне? Напишу ли еще что-нибудь, даже вторую часть этой книги? Не знаю! Но я вложил сюда все, что имел!»
Когда я кончил свою первую книгу и решил везти ее в свет, ребята пришли меня провожать на вокзал. Они смотрели на меня с теплым сочувствием, но — увы! — с малой верой.
— Ты не дрейфь! — ободряли они меня. — Чуть что — вали назад. Черт с ней, с литературой.
— Не зарывайся, Сергей! — наказывали они мне. — Знаешь, какая там среда! Пропадешь! Писателей много, затеряться тебе легко… — И ободряли: — Чуть что не так — вали назад. На дорогу соберем, вышлем, телеграфии только.
А я жал их теплые дружеские руки, обнимал их плечи и говорил:
— Ребята! Вы знаете меня: я не трепач. Вот я торжественно говорю вам: я был неплохим наборщиком, я был не очень скверным секретарем ячейки. Верно? Я знаю, писателей много. Но если я не стану хорошим писателем — я вернусь. Честное слово — вернусь. Готовьте встречу!
Они махнули мне вслед кепками. Сбившись по-комсомольски в кучу, они кричали мне вслед дружно, хором:
— У-да-чи, Сергей! У-да-чи!
— Спасибо, ребята! Я верю: удача будет. Я ведь из удачливого поколения. Я буду писателем, как Павлик стал мастером. Я напишу много книг. Все они будут о моем поколении.
А ребята всё махали мне вслед кепками. Эх, проводы, комсомольские проводы! Сколько раз провожали мы наших ребят! В армию, на учебу, на новую жизнь — все равно проводы всегда означали рост парня.
Мне вспоминается двадцать третий год, — это был год сплошных проводов: мы входили в жизнь. Первыми уехали Рябинин и Юлька. Они получили командировки: он — в рабфак, она — в профтехшколу. Это были первые комсомольцы нашей организации, которых мы отправили на техническую учебу. Даже Семчик согласился, наконец, что учиться надо. Сам он, впрочем, все же не пошел ни в какую школу.
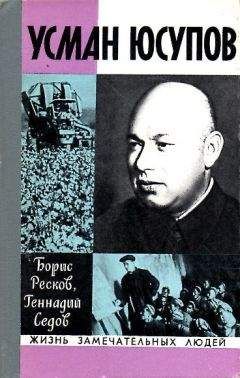
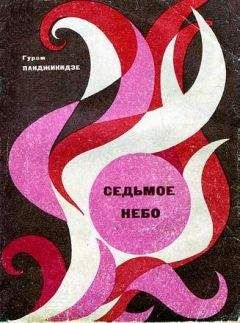

![Елена Сазанович - Смертоносная чаша [Все дурное ночи]](/uploads/posts/books/154688/154688.jpg)