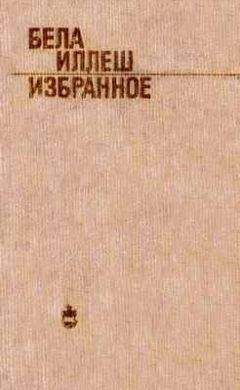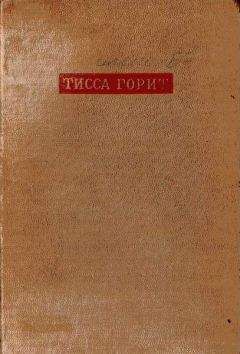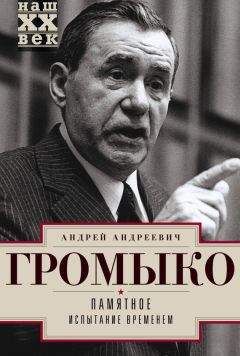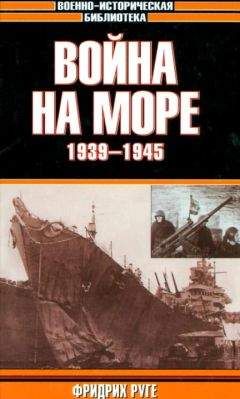Бела Иллеш - Избранное
Эта экспертиза решила судьбу процесса. Достоверность показаний Верховина была установлена. Когда судья огласил приговор, Фердинанд Севелла не мог сдержаться.
— У нас в Америке линчевали бы за такую клевету! — воскликнул он.
Проигравшая процесс будапештская фирма продала свое ничего не стоящее право на эксплуатацию марамарошских лесов одному агенту по покупке и продаже недвижимостей за тысячу двести форинтов. У агента это право за две тысячи пятьсот форинтов купил Фердинанд Севелла.
Из-за этих двухсот двадцати семи хольдов леса мадам Шейнер и Фердинанду Севелла четыре раза предъявлялись иски со стороны тех, кому они четыре раза продавали ничего не стоящие права на лесоразработки, но на основании показаний свидетеля Верховина четыре раза была доказана добропорядочность продавцов. В четвертый раз, когда покупателем леса был англичанин, судья предполагал, что продавцы наверняка попались. Адвокат английской фирмы обратился к Верховину со следующим вопросом:
— На каком языке стороны вели переговоры?
— На английском, — ответил Верховин.
— Откуда вы знаете английский язык, Верховин? — спросил судья.
— Если вы, господин судья, поработали бы, как я, пять лет в пенсильванских угольных копях, вы тоже умели бы говорить по-английски, — ответил Верховин, подмигивая Липоту Вадасу.
Мадам Шейнер и Севелла и на этот раз оказались невиновными.
Когда началось дело о продаже леса, мы еще жили в Уйпеште. Последний раз оно слушалось, когда я в Пеште сдавал экзамены на аттестат зрелости. В последнем акте этой трагикомедии главную роль играл Федор Верховин.
Верховин сколотил себе свидетельской деятельностью немного денег. Денежки эти он с мудрой дальновидностью положил в сберегательную кассу в городе Хуст. План его был такой: как только вклад достигнет определенных размеров, он переедет в Хуст и так же, как мадам Шейнер в Пемете, будет помогать попавшим в беду людям мелкими займами. Верховин был вдовцом. Пока он работал в Америке, его жена и две маленькие дочери умерли с голода. Правда, получая заработную плату, он регулярно, из недели в неделю, посылал семье по три-четыре доллара, вкладывая их в обыкновенные письма, но эти письма с долларами жена Верховина никогда не получала. Было бы трудно установить, в чьих карманах исчезали доллары Верховина во время долгого пути из Пенсильвании в Пемете. Но это неважно. Важно только то, что спустя пять лет, вернувшись в Пемете, Верховин напрасно разыскивал свою семью, — никто не мог ему даже сказать, где находится могила его жены и двух детей. С тех пор Верховин жил один. Работая в лесу, он не очень ощущал свое одиночество. Когда же три года тому назад сделался шабесгоем, то почувствовал, что жить человеку одному нехорошо. А с тех пор как его вклад в Хусте стал расти, он часто мечтал по ночам о жене. Не о своей покойной жене, а об еврейской девушке, с красными, как огонь, губами, черными глазами и кудрявыми волосами. Это была не какая-нибудь определенная еврейская девушка, но воображаемая молодая еврейка, у которой были такие губы, глаза и волосы, какие он желал, и которая была так же умна и добра, как мадам Шейнер. Он решил, скопив в Хусте достаточно денег, разыскать такую еврейку и жениться на ней. Благодетелем Хуста будет не он сам, а его жена. Жена будет заниматься делами, давать взаймы деньги и получать их обратно, ходить по судам. Сам же он, Верховин, которого тогда все станут называть господином Верховиным, будет сидеть в собственном доме с жестяной крышей и держать у себя, хотя его религия и не запрещает работать по субботам, шабесгоя и командовать им.
Пока что Верховин жил в такой же нищете, как и другие лесные рабочие, которые не выделялись из общей массы ни в качестве шабесгоев, ни в качестве свидетелей. Ел он овсяный хлеб, лук, кашу из кукурузы. Разрешил себе только одну роскошь. Еще в детстве он видел в Марамарош-Сигете венгерского господина, который носил высокие, выше колен, желтые сапоги. Почему-то эти желтые сапоги произвели на него гораздо большее впечатление, чем океанские пароходы и нью-йоркские небоскребы. В глазах Верховина верхом человеческого счастья было иметь такие, выше колен, желтые сапоги. Как простой лесной рабочий, он не мог даже надеяться приобрести когда-либо такие сапоги. Как шабесгой, он часто подумывал о них, да и то впустую. Но после приговора по первому лесному процессу, когда Верховин впервые положил деньги в сберегательную кассу, в нем началась внутренняя борьба между практическим чутьем и детской мечтой. После приговора по второму процессу победила мечта детства — желтые сапоги выше колен. У лучшего марамарош-сигетского сапожника, Лайоша Чисара, Верховин купил самую красивую пару желтых сапог, которые ему, человеку низкого роста, закрывали даже бедра так, что мешали ходить. Вернее, мешали бы, если бы Верховин купил эти сапоги для того, чтобы их носить. Но об этом он даже не мечтал. Он связал шпагатом левое ушко одного сапога с правым ушком другого, вбил в стену своей хижины большой крюк, который утащил со склада, и на этот крюк повесил связанные вместе сапоги так, что они упирались носками в висящую в углу икону. Когда Верховин молился перед иконой, он всегда видел перед собой олицетворенную мечту своего детства. И думал о том, что, если сапоги стали действительностью, почему же не может стать действительностью и та еврейская девушка с красными губами, черными глазами и кудрявыми волосами, которой он предназначил роль благодетельницы Хуста?
Пока Верховин мечтал об этой еврейской девушке, оп сделался антисемитом. Его антисемитизм имел две причины. Одной из них была та, что Натан Шейнер за последнее время стал кушать с очень большим аппетитом, с таким аппетитом, что для исполняющего обязанности шабесгоя Верховина от приготовленной на субботу фаршированной рыбы не оставалось ни одного куска. Между тем Верховин очень любил фаршированную рыбу. Во сне он часто сидел — в желтых сапогах — у большого, очень большого стола, на котором длинным рядом стояли блюда с фаршированной рыбой. Верховин опустошал одно блюдо за другим, но сколько бы он ни ел, на столе все еще оставалось достаточное количество полных блюд. После такого сна Верховин даже наяву чувствовал запах фаршированной рыбы. Но так же, как от его снов оставался один только запах, так и от настоящей фаршированной рыбы шейнеровской кухни на долю шабесгоя выпадал только запах. И это ожесточало его.
Другим источником его ожесточения была американская шапка, вернее — Ревекка Шенфельд, или, еще точнее, отношение Ревекки Шенфельда к привезенной из Америки шапке Федора Верховина. Эту клетчатую шапку Верховин купил в Америке за шестьдесят пять центов. В течение года он носил ее на улице и около трех лет в шахтах во время работы. Так как за все это время шапка ни разу не видела щетки, ее нельзя было назвать особенно чистой. Причем Верховин носил эту шапку не только в шахтах, но и в течение тех четырех месяцев, когда он работал на каком-то химическом предприятии. Годы, проведенные в шахтах, придали шапке Верховина особый цвет, а месяцы на химической фабрике — особый запах. Запах этот был такой, что человека со слабым желудком от него тошнило.
Из всех своих привезенных из Америки сокровищ Верховин мог похвастаться только одной этой шапкой, все остальные вещи он давно продал. Шапка висела на стене, как бы выполняя функцию украшения комнаты. Когда Верховин купил желтые сапоги, шапка была снята, и с этого времени она распространяла свой аромат в одном из углов комнаты. Нашлись отчаянные мыши, решившиеся попробовать ее. Когда Верховин заметил, что обжорство проклятых мышей грозит его видавшей виды шапке гибелью, он решил расстаться с этим последним памятником проведенных в Америке лет. Он предложил ее Ревекке Шенфельду, который тогда был еще жив и с усердием вел свои мелкие торговые дела. Верховин просил за нее всего-навсего одну глиняную трубку с вишневым мундштуком.
Ревекка тщательно осмотрел шапку, снаружи и изнутри, понюхал ее и вернул Верховину.
— Трубку я за нее дать не могу, — сказал он, — но если ты дашь мне в придачу десять крейцеров, я дам тебе за нее одну пуговицу для брюк.
Это заявление Ревекки было вторым источником антисемитизма Верховина.
В течение долгого времени Верховин сам не знал, что он антисемит. Но его антисемитизм стал сознательным чувством и воинствующим убеждением, когда за отсутствием лучшего развлечения, а также и потому, что это не стоило денег, он прослушал проповедь Дудича и увидел его рукопашную борьбу с медвежатником. Проповедь «пророка» и эта борьба так воодушевили Верховина, что, когда «пророк» уходил из Пемете, он вместе с тридцатью другими русинами пошел проводить его. По этому случаю он впервые надел купленные им в Марамарош-Сигете высокие желтые сапоги.
Верховин стоял совсем близко к «пророку», когда из леса раздался выстрел.