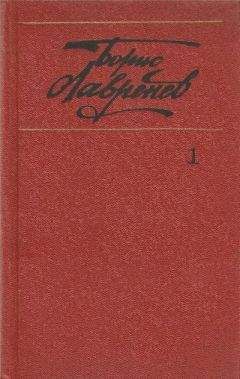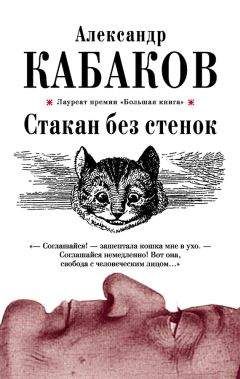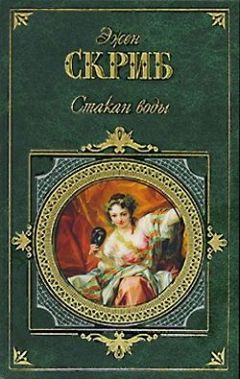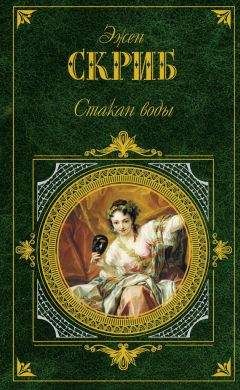Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы
— Виновный Александр Бестужев приносит преступную голову на суд вашего величества.
Николай молчал. Плечи оставались недвижны. Потом они колыхнулись, и недоношенный день слабым блеском лизнул эполеты. Через стол протянулся обтянутый рукав.
— Радуюсь, что вашим благородством вы даете мне право уменьшить вашу вину.
Голос был сдавленный и тусклый, как из могилы. Влажная, холодная еще ото вчерашнего страха ладонь коснулась пылающей руки. Николай повернулся к Перовскому:
— В крепость! Содержать хорошо.
Как он мог поверить этому бригадиру с лицом эллина, страдающего флюсом? Как он мог пожать руку, затянувшую потом конопляную петлю на девической шее Кондратия? Но он думал тогда, что все происшедшее только ссора между братьями, что этот старший, получивший в наследство Россию, поймет младших и создаст крепкую, любовную семью.
Бестужев яростно засосал мундштук. Но трубка погасла. На языке расплылась только едкая горечь холодного никотина. Он швырнул трубку на стол и по скрипящему трапу поднялся на палубу.
Между кормой и баком внутренность шлюпа была раскрыта, как вспоротое брюхо большой рыбы. На дне, между шпангоутами, сидя и лежа, плечо к плечу, дремали солдаты. В темном свете ущербной луны они казались молчаливой серой отарой овец, везомых на продажу. Их дыхание билось, как далекий ровный прибой.
Он отвернулся с отвращением и болью. Он чувствовал их. Ведь семь лет он был овцой этого проданного стада, семь лет бок о бок, локоть о локоть с ними он выбивал штыком свое офицерство, кровавыми усилиями выкарабкиваясь на поверхность жизни.
И только они до конца понимали ужас его участи. Только они стали верной опорой, когда отвернулись бывшие друзья. Многие из тех, кто прежде искал в адъютанте принца вюртембергского, в течение этих семи лет при встречах опускали глаза и прятали руки, чтобы избежать рукопожатия опального солдата. Захолустные бурбоны считали за удовольствие мелкими придирками напомнить ему о каторжном бесправии.
Но солдаты были крестными братьями в несчастье. Он вспомнил, с какой простой жалостью они отдавали ему свои последние куски, как они оберегали его достоинство и его покой, как в палатке, после дневного перехода, затихали шутки, смех и побранки, когда, примостившись у огарка, он записывал в книжку свои заметки.
«Алексан Алексаныч пишет, братцы».
По этому слову умолкало все. И когда наконец он получил приказ о своем производстве, разве не они первые пришли поздравить его и принести в дар символ его жалкого воскресения — прапорщичьи эполеты!
Они помогали ему, как добрая няня помогает ребенку, встающему впервые на ноги. С их помощью он вырвался из страшного круга, чтобы от безыменной вещи перейти в положение лица, имеющего права, от совершенной безнадежности к возможности счастья, от унижения к неприкосновенности самой чести.
Да?.. Он прислонился к борту и засмеялся.
Права? У него не было даже права на отставку. Что из того, что его второе имя, ставшее ему родным, знала вся Россия? Что тысячи людей дышали и жили его мыслями и проливали слезы над его страницами? У него не было даже права на отставку, права на склоне лет отдать последние силы перу с тем же суровым постоянством, с каким он отдавал силы молодости боевому оружию.
Что из этого? «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью, — он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы».
Право на отставку давала только рана. А он был несчастлив. Пули несправедливо избегали его, как бывшие друзья — опального солдата.
У него оставалось одно неоспоримое право — на смерть. Но жизнь еще бушевала в нем. Она шумела в крови, как майская гроза в кронах весеннего сада. Он хотел жизни, он был жаден к ней, он мог еще начать снова.
Пусть здоровье вытекало по каплям, как сок из надрубленной березы, в зное кавказских болот, в душистой сырости зарослей.
Если умирать — умирать нужно было раньше. Он мог умереть так, что об этой смерти пела бы вся Россия одной широкой, вольной песней.
Он снова вспомнил встречу во дворце. Она могла бы быть иной.
Когда по доставке в крепость его обыскивали в комендантской камере, хихикающий Сукин вытащил из-за борта его мундира маленький английский пистолет, заряженный на оба ствола.
Он сам удивился, увидев этот пистолет. Он забыл о нем. Это было во дворе Московского полка. Взбесившийся якобинец из недорослей, Щепин-Ростовский, носился по плацу, увешанный оружием. Сбоку у него висела шпага, а в правой руке кривая сабля, забрызганная кровью Фредерикса и Шеншина, в левой кинжал и пистолет. Он был смешон и страшен, как помешавшийся мясник.
Бестужев отнял у него пистолет и сунул за пазуху.
Нужно было вспомнить о нем раньше, когда через стол протянулась испуганная потная рука. Нужно было выпустить оба заряда в лицо, призрачно плававшее в желтой слизи декабря.
Но об этом было поздно жалеть. Оставалась последняя надежда. О ней он думал, когда писал месяц назад Воронцову: «Прошу, ваше сиятельство, ходатайствовать о переводе из гарнизона, где я осужден тлеть без случаев к отличиям, в какой-либо полк, в рядах которого можно положить голову с честью».
Просьба была исполнена. Старый, добросердечный, рассеянный Розен согласился взять опального в свой полк, отправлявшийся на высадку к мысу Адлер.
Мыс Адлер был впереди по носу шлюпа. Оттуда текла, вздрагивая сельдяной чешуей, трепетная лунная дорожка, и на ней, у самого горизонта, вытянулся узкий темный язычок выступающего берега.
На этом клочке земли для него была приготовлена наутро беспроигрышная лотерея. Выигрышем была отставка. Он выигрывал ее равно и жизнью и смертью.
Он оглянулся за корму. Там струилась такая же живая, золотая тропинка. Она была прямым путем к родине. Она струилась к Крыму, к киммерийским степям. Оттуда, через Дикое поле, древние кочевые тракты сбегались к Москве.
Сорок судов высадочного отряда черными дельфинами ныряли в лунном омуте. Каждое несло груз надежд и отчаяния. На каждом были такие же игроки, как он. Они так же стояли, убаюкиваемые колыбельной дрожью палубы, и смотрели на мыс.
Внезапно он прислушался. Чуть слышный шорох, казалось от вытянутых вантин, зашептал ему в уши. Он старался понять нестройные звуки и вдруг почувствовал, что голос идет изнутри его. Он рождался медленно, как прорастающее в земле зерно, и пускал ростки. И когда он стал явным, Бестужев испуганно оглянулся, будто кто-нибудь мог подслушать его, сгорбил плечи и, шатаясь, спустился в теплую сырость каюты.
2Над узкой полосой галечного побережья, по увалам пригорков дыбилась чащоба кустарников. Она курилась ползучими голубоватыми дымами. Было похоже, что кустарники горят, ежесекундно поджигаемые в разных местах.
Жестяной треск стрельбы путался в кустарнике, как треск ломаемых веток.
Суда высадочного отряда, одно за другим, нехотя подползали к береговой черте, брызгая огнями и громом морских фальконетов, поддерживавших высадку.
Навстречу судам, с берега, свистя, неслись невидимые резвые птички. Они прошивали душный с утра воздух, иногда сослепу ударяясь в доски бортов. Тогда в борту оставалась дырка, и мертвая птичка обессиленно валилась на днище раздавленным свинцовым комком.
Когда нос судна со скрипучим шуршанием давил гальку, солдаты с сапогами за спиной, в белых рубахах, как по команде, крестились и, крепя посудину, наваливаясь на борт, гурьбой сыпались в воду.
По грудь в ней, бережно подымая ружья и пороховницы, взбивая пену, скользя по неверным камням и хватаясь друг за друга, они торопились к берегу табуном искупавшихся коней. Ругань была похожа на ржанье.
Некоторые не успевали добраться до суши и тяжело валились в мутную теплую пенную зелень. Полотно рубах, вздутое воздухом, держало их на поверхности. Из-под воды вылетали хрипящие пузыри, лопаясь в расплывающихся кровяных нитях.
Лекарские ополченцы вытаскивали их и, грубо хватая за ноги и плечи, тащили к груде рыжих, ржавых камней, под прикрытием которой лекарь раскинул перевязочный пункт. Одутловатый, в сюртуке с полупогончиками, но без штанов, с трубкой в зубах, он спокойно ковырялся в ранах. Розовое солнце обливало глазурью его волосатые ляжки и свислый жирный зад.
Успевшие выбраться на берег быстро валились за камни, за бурелом и беспорядочно палили по кустарникам. Стреляли без толку, наугад. Черкесов не было видно, но они били сверху на выбор. Как всегда, оружие завоевателей было хуже оружия завоевываемых, а империя твердо верила в суворовскую поговорку о пуле-дуре и штыке-молодце.
Вода была неприятно теплая и упругая. Ее теплота проникала сквозь голенища сапог и полотно брюк, словно ноги были погружены в чуть остывший чай.
Бестужев зябко поежился. Его мутило. Ноги дрожали.
Он знал, что это предвестие прихода малярии, давней малярии, захваченной еще в дебрях Геленджика. Как привязчивая жена, она тайком, неслышно кралась за ним повсюду, время от времени обрушиваясь на него страстными изнурительными припадками.