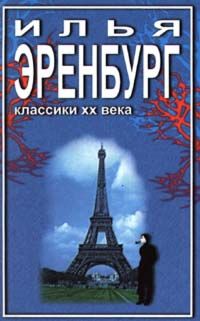Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
— Кто там?
— Мне нужно видеть m-lle Лизетт.
— Это я.
— Пьер здесь?
— Зайдите.
С трудом Андрей влез внутрь. Там было темно, пахло дешевой пудрой и тряпьем. Он не мог разглядеть лица говорившей с ним девушки.
— Пьера нет. Пьер вчера ночью арестован. Он успел передать мне записку. Он просит сообщить вам, чтобы вы скорей уезжали. Он в тюрьме Санте. Бедный Пьер!
Нет, Пуатра напрасно сомневался, думая о своей русой девчонке. Может быть, она и бывала иногда капризной. С кем этого не бывает? Но по тому, как она сказала: «Бедный Пьер», как задрожал при этом ее тоненький голосок, было и без дальнейшего ясно, что русая Лизетт любит Пьера, что она впустила его не только в темный фургон, но и в сердце.
Андрей был окончательно подавлен ее словами. Пуатра провалился. За ним следят. Надо ехать. Связь с организацией порвана. Возобновлять нет времени. Придется ехать в Тулон, не получив инструкций, ни с кем не повидавшись. Он испытывал страшный упадок сил.
А Лизетт продолжала:
— Молодчина Пьер! Он не как другие, он не трус. Вы товарищ Пьера? Вы русский? Что же, вы тоже не трусы. О, как я их ненавижу! Мой отец был коммунаром. Версальцы ему пробили пулей правую ногу. Теперь, если будет снова коммуна, я тоже пойду стрелять. Теперь-то мы их заполучим!
Андрей смутился. Он, кажется, даже покраснел: в фургоне было темно. Ах, до чего он не прав! Ему стало страшно стыдно не только за свою минутную усталость, но и за то, что он не верил в этих людей. Маленькая русая девчонка сильней и умней его. Он крепко пожал ручку Лизетт:
— Да, да, конечно! Ваш Пьер молодец. И вы. И вы тоже! Понятно, мы их заполучим!
— Теперь мне нужно идти, — сказала Лизетт. — Мой номер. Зайдите в балаган. Вы увидите, как я работаю. Зайдите. Пожалуйста, зайдите! Мне сегодня очень не по себе. Я буду спокойней, если вы будете там. Ведь Пьер арестован… А когда ходишь по канату, нужно быть спокойной, совсем спокойной.
Андрей прошел в первый ряд. Через минуту на арену выбежала маленькая девушка, почти ребенок, в коротенькой юбочке, обшитой стеклярусом. Ее подняли на канат. Она вытянула руки и улыбнулась. Она начала танцевать. Андрей больше ни о чем не думал. Он несся глазами за плясуньей, как будто мог взглядом поддержать ее. Одну минуту ему показалось, что она падает. Он привстал, готовый броситься на арену. Но нет, это Лизетт исполняла самую трудную часть своего номера. Она стояла на одной ноге и кивала руками в такт музыке. Директор цирка, старый клоун, единственный из «братьев Шелево» (другой брат давно умер), хлопая стеком, мерно покрикивал:
— Смелей! Смелей!
И, глядя прямо на Андрея, улыбаясь теперь только ему, маленькая Лизетт, дочь коммунара, подруга шофера Пуатра, весело крикнула:
— Смелей! Смелей!
Андрей встал. Недавних сомнений как не бывало. Он бодро шагал по площади. Он больше не раздражался, глядя на веселую толпу. Нет, теперь он верил ей, он ее любил. Ведь это же великий парижский народ! Кто знает, может быть, завтра он пойдет защищать новую коммуну? Пусть веселятся! Пусть стреляют в глиняные трубки! Андрей слышал, как бьется сердце славных предместий, рабочее сердце Парижа. Разве не на этой площади санкюлоты танцевали карманьолу? Разве не здесь, на этом углу, сидел старый ветеран сорок восьмого года и раздавал инсургентам — каменщикам, пекарям, ткачам — патроны. И каменщики, и пекари, и ткачи знали одно: столько-то для версальцев, а последний для себя. Великий народ! Вот его дочь, дочь Парижа, девушка Лизетт, которая может пудрить капризный носик, которая может даже надувать губки, но которая знает: «Мы-то их заполучим». Нет, Андрей здесь не одинок! Надо работать! Послезавтра в Тулон.
Андрей мог бы уехать и завтра. Но Жанна? Он должен повидаться с Жанной. Он зашел в маленький бар. Было пусто, только два сонных старичка играли в шашки. Он попросил чашку кофе и здесь же, у стойки, наспех написал Жанне несколько слов. Они должны увидеться завтра.
Когда он вышел, было уже темно и безлюдно. С площади Бастий едва доносились голоса усталых шарманок. Дул теплый, мокрый ветер с Ла-Манша, от которого губы становились солоноватыми. Ветер этот обещал многое. Все мартовские ночи напролет он волновал старый город. Андрей остановился и поглядел вокруг себя. Отвесные стены без окон, черное небо, пустота. Тогда русая девчонка Лизетт, кричавшая: «Смелей», Париж, большая любовь Жанны, революция, Россия — все слилось в нем в одну тяжелую радость человека, который живет, борется, любит.
Глава 22
НЕОБХОДИМА СИЛЬНАЯ РЕТУШЬ
Это началось с вечера. Когда m-lle Фальетт принесла липовый чай и спросила, не нужно ли Жюлю Лебо еще чего-нибудь, он уже чувствовал первые приступы сердечного припадка. Он даже хотел удержать старенькую экономку, попросить ее остаться с ним переночевать в кабинете. Конечно, m-lle Фальетт согласилась бы, ведь это входило в ее обязанности. Но Жюль Лебо суеверно подумал, что, если это сделать, станет еще хуже. С болезнью нужно всегда играть в прятки. Он выпьет чашку чая и ляжет. Он притворится, что вполне здоров. Кто знает, может быть, он и вправду уснет?
Давно уже ушла m-lle Фальетт. Давно остыл липовый чай. Жюль Лебо лежал и задыхался. Сердце его резко стучало, оно явно пыталось вырваться вон. Жюлю Лебо хотелось встать, одеться, выйти на улицу, где много воздуха, где легче дышать, где среди прохожих уютно и просто, нет этой настороженности, нет идолов, нет рецептов, микстур. Но встать он не мог, отекшие ноги, казалось, уже отделились от Жюля Лебо и только случайно лежат здесь же рядом на диване. Тревога росла. Каждую минуту Жюль Лебо глядел на часы. Стрелка двигалась медленно. Было все время три часа, ну, три двадцать, три двадцать пять. Утром полегчает, утром будет светло, утром придет m-lle Фальетт. Но до утра оставалось еще много. Три тридцать пять.
Вдруг его сердце замерло. Оно вело себя, как пьяница, запертый в клетку, который колотит дверь, буянит, кричит, а потом сразу валится без сил на дощатый пол. Вероятно, сердце все же работало, потому что Жюль Лебо жил, но ему казалось, что оно остановилось. С трудом дотянулся он до бутылки, стоявшей на ночном столике, и жадно выпил горькое лекарство. Но сегодня и дигиталис не мог ему помочь.
Тогда Жюль Лебо снова взглянул на часы, чуть приподнял свою острую, седую голову и сказал вслух, торжественно, как будто его слушали не только эти деревянные истуканы, а набитые зрителями ярусы громадного театра:
— Итак, я умираю!
Надо умно и просто умереть, умереть так же, как он жил. Это не может быть страшно. Разве мало в своих романах он описывал смерть, стараясь воссоздать каждый хрип, каждую судорогу? Разве мало он думал о смерти? Для людей она тайна. Для людей все вообще тайна. Им нужны черные и белые боги. Человечество — это огромный детский сад. Среди детворы своей дорогой прошел Жюль Лебо. Он разглядывал этих ребят, порой бранил их, порой гладил по головке, но всегда презирал. Люди, умирая, трусят, цепляются за руки живых или же прячут головы под сутаны аббатов. Жюль Лебо умирает просто, как рассыпается Акрополь, как опадает ронсаровская роза[61].
На улице поднялся сильный ветер. Неожиданно хлопнула ставня кабинета. Это было похоже на резкий стук в дверь. Жюль Лебо машинально ответил:
— Войдите!
Потом он усмехнулся. Кому он сказал? Госпоже смерти. Великолепно! Смерть ведь не члены академического жюри, с ней приходится быть вежливым. Губы Жюля Лебо даже обрадовались: они теперь делали свое привычное дело, они усмехались.
Сердце же снова заметалось. Жюль Лебо хотел вздохнуть, но не мог. Без десяти четыре. Это было томление человека, стянувшего ремни чемодана. Он боится опоздать, вдруг вспоминает, что забыл какую-то вещь. Чемодан уже выносят. Двери настежь. Обождите! Но что же он забыл? Он пытливо осмотрел большой кабинет. Полинезийский урод нагло подмигивал ему. Вдруг он заметил рядом с диваном длинный лист. Ах, это он писал сегодня, до того, как m-lle Фальетт принесла липовый чай. На листе была одна только фраза, окруженная густым роем помарок: «Люси улыбнулась» — «улыбнулась» было вычеркнуто, той же участи подверглись «молчала», «вздохнула», «заплакала». Оставалось одно слово «Люси». Увидав теперь этот лист, Жюль Лебо вздрогнул. Как? Уже смерть? А книга? На чем он остановился? Взять лист! Сейчас же! Писать! Скорее! Без передышки! «Люси задыхалась». Нет, это совсем не то! Задыхается он — Жюль Лебо, от грудной жабы, от многих других болезней, задыхается, умирая, а Люси ведь не умирала, она любила. Что же она делала? Нет, этого Жюль Лебо не знал. Он с раздражением швырнул на пол лист. Он не будет писать этой книги. Четыре часа. Что же она медлит? Войдите! Милости просим!
А вдруг войдет? Вот сейчас? Жюль Лебо закрыл пледом голову. Таким образом, боги не увидали его позора. Они не узнали, что Жюлю Лебо стало страшно. Это был простой животный страх. Он схватился за грудь. Сердце хоть неровно и слабо, но все же еще билось. Как пусто здесь! Хоть бы пришла m-lle Фальетт. Хоть бы кто-нибудь для виду его пожалел. Великому писателю так страшно умирать! Но нет никого. Почему же у других жены, дети, друзья? Тогда простая мысль родилась в его голове, привыкшей лишь к мыслям затейливым и сложным: ведь я же никогда не любил. Откуда мне знать: улыбалась Люси или плакала, узнав, что Поль ее любит? Может быть, она и улыбалась и плакала. Не знаю. Ничего не знаю.