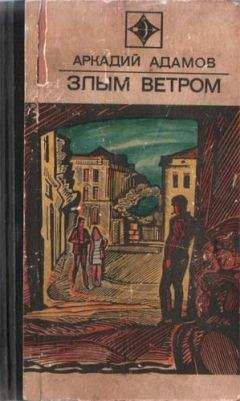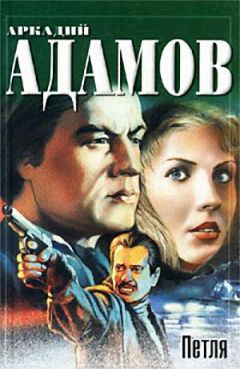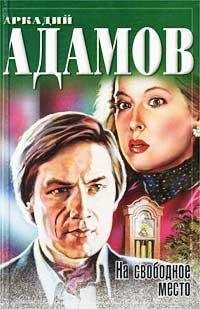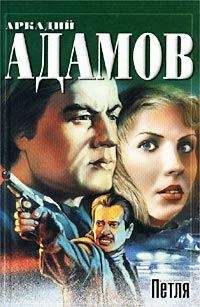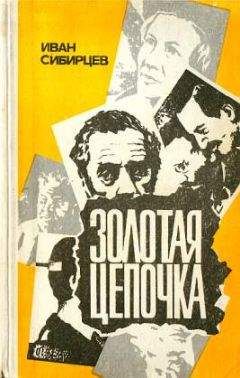Евгения Леваковская - Нейтральной полосы нет
— Ну, братику, повезло нам, — сказал Вадим. — Галя, наверное, гостей ждала.
— Все возможно, все возможно! — напевая некий игривый мотивчик, Никита прошелся по кухне. Но настроение у него было отнюдь не смешливое и не игривое. Хорошее, какое-то глубокое настроение.
Сначала Никиту несколько стесняла проникающая во все подробности задания забота о нем многих людей, от Корнеева (это не удивило) до Чельцова (этого он не ожидал).
Самолюбие Никиты ворохнулось: что же он, компьютер, что ли, своего рода Каисса, которая жива только чужими интеллектами?
Но в первый же день эта полудетская обиженность уступила место спокойствию сталевара, машиниста или летчика, на полет которого работают многие-многие люди. В специальности Никиты эта коллективная заинтересованность просто более наглядна. Она налагает на Никиту большую ответственность, и только.
Вадим включил маленький черный транзистор. Этим транзистором недавно премировали Галю, и, хотя в доме имелся важный многокнопочный приемник, маленький «Алмаз» стал для всех Лобачевых любимой игрушкой. Маринка заряжала его чуть не через день.
Вадим пил коньяк, Никита, как обычно, ничего не пил, но на еду приналегли оба, и некоторое время Эдита Пьеха пела в нерушимой тишине.
На стене низко над столом горела матовая раковина.
— А бабочки к вам не залетают, — заметил Никита, вспоминая армады мохнатых существ, атаковавших его в часы ночных занятий.
— Кит, а ты хоть эти шлягеры — песенки знаешь? — спросил Вадим.
— Знаю, знаю в избытке, не беспокойся.
— Успел, значит?
— Представь, успел…
Диктор повторил, что выступают ленинградские ансамбли, Вадим подумал о троице. Кто же все-таки у них четвертый? Появится ли он на юге? Если об этих троих Никита получил определенную информацию, то Сантехник до сих пор оставался в совершенной тени и сам тени не отбрасывал, о нем — глухо. Касательно Никиты как будто все предусмотрено…
Умолк Ленинград. Шла передача «Юности» для бойцов студенческих отрядов. Под гитарный щебет молодые голоса пели хорошую песню. Никита прислушался с удовольствием и жестом остановил Вадима, хотевшего порасспросить насчет шлягеров.
«…Уходит бригантина от причала, мои друзья пришли на торжество, и над водой как песня прозвучало: «Один за всех, и все за одного».
— Это я тоже знаю, — сказал Никита.
Такой он был сейчас довольный, спокойный, сытый. Он любил Галины салаты, и ему не часто доводилось их едать.
Вадим улыбнулся.
— Кит, но это же не для них песня.
Никита глянул на брата, покивал:
— Да, конечно. Понимаю и учту своевременно.
При мягком рассеянном свете, без кителей, оба в полурасстегнутых рубашках с отложными воротниками, братья были сейчас очень похожи. Даже седина Вадима не выглядела сединой, так — припорошило дорожной пылью волосы.
— Кит, а ты часто вспоминаешь маму? — вдруг спросил Вадим.
Вадим спросил только о матери. Отца Никита не мог помнить. Он родился уже после того, как отец был убит. Погиб при исполнении служебных обязанностей…
Растила их мать, одна мать. Когда стало известно, что отцу ставят памятник, в доме Лобачевых состоялось печальное торжество, пришли соседи, поминали добрыми словами Ивана Никитича.
Помимо службы, отец был отличным мастеровым, умельцем на все руки. После войны многие дома остались без хозяев, и многим осиротевшим семьям Иван Никитич в редкую свободную минуту помогал по хозяйству: где в калитке доску пришьет, где водосток подлатает. Работал он на совесть, поделки его держались долго.
На площади, пока говорили речи, мать стояла тихо, держа за руку маленького Никитку, который один был весел и доволен в этот день. Но когда с памятника упал холст, с матерью сделалась истерика. Ей показалось, что рот отца мучительно перекошен.
А Вадим как-то сразу принял в душу бронзового Лобачева, обрадовался встрече с ним. Он не часто ходил на отцовскую могилу, слишком разделяла их земля. Земли было много, Вадим запомнил это, когда она падала и падала на гроб и никогда, казалось, не заполнится эта ненасытная яма.
А сейчас пусть в бронзе, но Вадим увидел отца, его густой чуб, густые надломленные, как крылья у чайки, брови. Сам Вадим тогда так не сказал бы и не подумал. Это отец однажды показал ему чаичьи крылья, когда катал его на моторке по Московскому морю.
Отец сказал:
— Смотри на чайку, сынок. Наша мать на нее похожа. Мы с тобой мужики грубые, а мать у нас красавица.
Тогда Вадим не понимал, позднее понял, что мать у них и вправду красавица. В ней текла латышская кровь, у нее были золотые, в руку толщиной косы и небесной синевы глаза.
Вадим становился юношей, когда до него стали доходить добрые — от души! — разговоры соседей о том, что Алевтине Павловне, женщине молодой и самостоятельной, негоже одной век вековать, что за нее сватается хороший человек, хочет жениться, а два сына ее никому не помеха, у них пенсия, да старший уже кончает техникум, на заводе вот-вот получит разряд.
Вадим уже понимал: матери трудно и неправильно быть одной. Он радовался, вернее, принуждал себя радоваться, что мать не будет одинокой. Но именно в эти дни ему все думалось, что отец на площади один и мокрые снежные хлопья падают на его непокрытую голову.
А решалось дело весной. В одно из воскресений человек этот пришел к ним с большим букетом черемухи, Никите принес конфет. Никита охотно, как всегда, принял от него конфеты, потому что чувствовал искреннюю ласку и благорасположение.
Вадим знал, что дом их — гулкий, как барабан, из угла в угол каждое слово слышно. Он увел Никиту на курячий — тогда у них водились куры — двор, под навес, в бывшую отцовскую мастерскую, где еще стоял верстак, обильно изукрашенный птичьими вавилонами.
Вадим старался не показать братишке, что ему грустно, принялся что-то мастерить из первой попавшейся досочки. Весь столярный инструмент отца, как и при нем, хранился в самодельном деревянном шкафчике.
Недолго пришлось ему мастерить. Даже под навес донесся из дома крик:
— Но ведь он же умер! Умер!
Гость спустился с крыльца, уже без черемухи, убитый, раздавленный. Больше они его никогда не видали. Наверное, он сильно любил мать.
А вслед за ним на крыльце показалась и мать. Слезы текли по ее лицу, она их не утирала. Она плакала, но в глазах, во всем ее облике не было горя, наоборот, появилась просветленная успокоенность. Что-то, видно, свершилось в ней, кончились сомнения, началась другая жизнь.
— Где вы, дети мои? — позвала она с крыльца. Еще сияющие слезами глаза улыбались навстречу ее мальчикам, его сыновьям, которым она принадлежала отныне единственно и навечно.
Никитка, услышав крик еще под навесом, не понял и все допытывался у Вадима:
— А кто умер-то?
Вадим вывел его навстречу маме. Никитка собрался было и ей задать вполне приличествующий случаю вопрос, однако Вадим уследил и, сжав его ручонку, беззлобно, но грозно прошептал:
— Молчи, дурак!
Так и остались они жить. Не втроем. Вчетвером. Всепоглощающая верность матери помогала и сыну не отпускать живой образ отца в блеклую страну воспоминаний. Вадим добивался, чтоб и для младшего бронзовый памятник на площади не был чужим. Вадим любил пройти мимо памятника поздно вечером — это редко удавалось, он занимался на вечернем, — когда площадь пуста и можно остановиться, даже немного поговорить.
В один из таких поздних вечеров-свиданий и произошел случай, который не забылся, никогда не был забыт, никогда забыт не будет.
Вадиму исполнилось восемнадцать лет, он уже работал на заводе, им лучше, вольготней жилось. Стояла дождливая осень, но площадь недавно заасфальтировали, ходить было чисто. Подходя, Вадим с удивлением увидел у памятника две мужских фигуры. Стояла осень, и маленький цветничок у постамента уже повял.
Двое молодых людей в хороших пальто, в ботинках на каучуке, оба старше Вадима, судя по голосам, не очень-то и выпивши, привалившись к постаменту, старались приклеить к бронзовым губам окурок.
Вадим бросился на них. Один легко отбросил его на асфальт сильным грамотным ударом в солнечное сплетение. Тогда Вадим не знал ни бокса, ни тем более самбо и даже в простых уличных драках не имел решительно никакого опыта.
Кое-как собрав силы, он поднялся и молча бросился опять.
Тогда его стали бить умело и безжалостно. Зубы ему оставили в целости, но, как впоследствии выяснилось, повредили шейные позвонки. И отец, закованный в бронзу, смотрел, как били его сына. И было пусто и тихо на площади. И не было свидетелей, кроме отца.
Потом послышались гулкие на мокром асфальте шаги, стали чаще, приближались. Кто-то бежал.
Неверно сказать, что Вадим обрадовался этим шагам. Боясь потерять сознание, он воспринял эти шаги как спасенье, как справедливость. В темноте он не разглядел ни тех, кто бил, ни того, кто подбежал. Он только понял по голосу, по дыханию, что подбежавший был много старше.