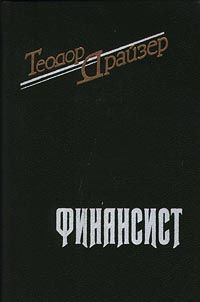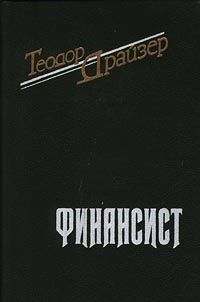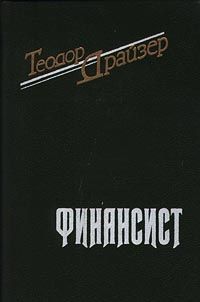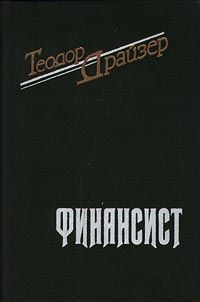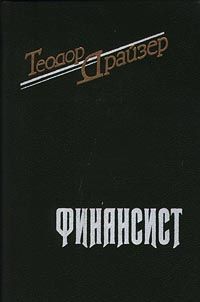Владимир Корнилов - Семигорье
Надо было — я воевал, хотел воевать. Кончили воевать, меня из дивизии в промакадемию послали. Учиться, сказали, надо. Поехал, тоже не ломал себя. Потом завод строил. Недалеко отсюда, на Волге. Тоже хотел, чтобы у того завода трубы скорее задышали. Может, не у каждого «хочу» и «надо» — враги?.. Что себя ищешь — это хорошо. Всё же главное, думаю, не твои желания и не борьба с желаниями, а цель. Цель и характер определяют человека. И ещё — долг.
Арсений Георгиевич, тужась, стащил с ноги сапог. Размотал мокрую портянку, босую ногу пяткой поставил на полешко. От ноги и портянки шёл пар. Алёшка видел бледную ногу с мозолями на пальцах, суконную портянку с округлым чёрным следом пятки, и было ему до слёз обидно, что, начав такой важный разговор, Арсений Георгиевич слишком уж по-домашнему держит в руках перед огнём портянку, слишком уж с будничным видом, улавливая жар костра, шевелит пальцами босой ноги.
— Ты, Алексей, к слову сказать, не так уж слаб, как себя представляешь. Идти к озеру утку потрошить тебе не хотелось. Вода холодная, темно, руки мокрые, в крови, — что говорить, у костра приятнее! Ты всё-таки пошёл… Осознанная необходимость даёт ощущение свободы. Это сказано навечно. Хотя история мучается этим вопросом, пожалуй, с тех пор, как объявился человек…
В ночи послышался шорох, царапанье. Арсений Георгиевич поднял голову. Насторожился Алёшка. В свет костра вошёл Борис, волоча две зажатые под мышками длинные лесины.
— Ну, Алексей, топор у тебя! Мухам головы рубить! — Он уронил лесины за костром, отряхнул рукава полувоенного френча, поглядел на Алёшку, на Арсения Георгиевича, усмехнулся:
— Ну и лица! Не охотники — сибирские староверы. Над чем колдуете?..
— Толковали о жизни, — сказал Арсений Георгиевич, не принимая шутку брата.
Борис сокрушённо покачал головой.
— Утку-то хоть без философии варите? — Он присел к костру, горящей веткой осветил булькающий в ведёрке суп, острым насмешливым носом втянул в себя парок. — Вроде дичью пахнет. Ну, давайте есть!..
Все трое ели из одного ведёрка. Алёшка стеснялся, сдерживая себя, хотя был голоден. Арсений Георгиевич огненный, с пылу-жару, суп ел, не обжигаясь, ел молча, сосредоточенно. Борис достал четвертинку, налил в кружку.
— Выпьешь, Арсений?
Арсений Георгиевич покачал головой.
— К месту, да не ко времени. Кое-что обдумать надо, — сказал он.
— Как знаешь! — Борис выпил и теперь ел жадно, шумно втягивая в себя горячее хлёбово.
Алёшка кончил есть первым. Встал, спросил:
— Дров надо?
— Надо. Ночь длинная, — сказал Арсений Георгиевич.
Алёшка рубил принесённые Борисом лесины и думал, как сложны бывают истины, пока не откроют их другие люди. Он чувствовал, что в его душе идёт какая-то ещё неясная и сложная работа, которая его и беспокоила, и тревожила, и радовала ожиданием нового открытия. Он рубил лесину, отирал пот и снова рубил, испытывая восторг победы всякий раз, когда толстая лесина под ударами действительно тупого топора с треском разламывалась.
Борис Георгиевич сходил на озеро, отмыл ведёрко, навесил его над костром для чая.
В чёрной громаде леса над россыпью звёзд ухал филин. Кричали утки.
Арсений Георгиевич опять замкнулся, молча ходил в ночи, заложив руки за спину, шурша травой. Он терпеливо ожидал, когда Борис и Алёшка закончат хлопоты и уйдут к стогу отдыхать.
2Степанов нащупал в сухой прохладной траве сук, приложил к колену, разломил. Половинки подержал в руках, постукал одну о другую, с радостью узнавания прислушиваясь к вызванному нехитрому звуку. В ночи тихий постук прозвучал, как долетевший из горного распадка топот далёкого коня. В памяти мелькнули затуманенные временем лесные каменистые дороги, полк, растянувшийся по взгорью, заострённые шлемы будёновок, круглые донышки партизанских папах, кони, старательно отмахивающие головами, звяканье удил и топот, по всей Сибири топот конных красных полков, вместе с гулом пушек докатившийся до качающихся вод океана, — лихая молодость, жестокая к себе молодость, отзвучавшая и замолкнувшая на последних дорогах гражданской войны.
Он внёс в костёр разломыши, бережно пристроил на догорающих поленьях. Обочь костра вспыхнула подсушенная жаром трава, он загладил лишний огонь. Белый дым от притушенного жара туманцем повис над освещённой пламенем землёй.
Он покосился туда, куда тянул дымок. В темноте угадывался покатый бок стога, слыхать было, как шуршало сено под ещё не успокоившимися людьми. От стога донёсся усталый голос Бориса:
— Иди отдыхать, Арсений! Постель готова!..
— Я ещё побуду… — сдержанно отозвался он. У стога затихли, он знал, что теперь его не потревожат.
В сущности всё, что он сделал за последние двое суток, он сделал для того, чтобы получить вот эти несколько часов одиночества: завтра он уже не сможет думать о себе. Завтра, как всегда, его привычно и плотно сожмут другие дела, самое малое из которых для людей и государства важнее, чем это собственное, его дело. Люди заберут его время, его душевную энергию, его боль. Так будет на следующий, на пятый, на тридцатый день. Если уж он сумел разорвать вечную цепь забот, он должен изжить свою боль в эту ночь.
То, что случилось, не было горем. По крайней мере, так понимал свою боль Арсений Георгиевич. Горе — потеря невосполнимая. К тому же горе — область эмоций. А разбираться в том, что случилось, полагаясь на чувства, — дело бесполезное. Арсений Георгиевич это знал.
Скорее, это была беда, не столь уж редкая среди людей семейных. Про эту, у всех похожую, беду человечество написало много романов. И всё-таки каждый в этой беде мечется, повторяя других.
Степанов не хотел повторять других.
«Наши, человеческие, как доставшиеся нам «расейские», беды все стояли и стоят на том, — думал Арсений Георгиевич, ещё не решаясь думать о своей беде, — стоят на том, что чувства наши стары, как сама земля, и опытны, а разум молод и по молодости прислуживает чувству. Чувства катят любого из нас под ледяную горку, со свистом в ушах! Жить так-то, на чувствах, проще: поманили сладеньким — иди, обидели — бей в морду: сила солому ломит! По молодости да по слабости, по лености разум отступает там, где назначено стоять насмерть… Вот костерок! Слаб огонь — закинешь его охапкой и сухого хвороста. А дай ему время сил набраться — пойдёт всё гнуть, ломать, боры на колени поставит!..»
Всё, о чём думал сейчас Степанов, имело отношение к его беде. Не всегда даже мужественный человек спешит сорвать присохшие к ране бинты. Степанов знал, что сейчас к нему придёт боль, и какое-то время в уже успокоившейся вокруг ночи он ухаживал за костром, готовил себя к неизбежной боли. Костёр горел теперь ладно, жёлтый огонь приседал и покачивался на поленьях, жаркий дымок уходил в сторону, не беспокоил, и Арсений Георгиевич, поняв, что тянуть время теперь уж непростительно, сделал над собой усилие и вернулся к началу беды.
… Вечер. Он только что возвратился из Москвы. Он у себя дома, ещё не остывший от дел, заседаний, от напряжённых дорожных дум. Жена Валя сидит рядом на диване, в их общей комнате. Как всегда после разлуки, рассказывает, как она провела без него почти целую неделю.
Она сидит на диване боком, лицом к нему, по-девичьи подогнув длинноватые ноги. Лицо её в оживлении, в оживлении плечи, укрытые красной вязаной кофточкой, в движении руки.
Рассказывая, она быстрыми, горячими пальцами трогает его пальцы. Старается ему передать свою радость от встречи. Даже в тот вечер Валентина не изменила их старой привычке. Она, как это было у них принято, рассказывала прожитые в разлуке дни так, чтобы он, Арсений, мог хотя бы мысленно провести время разлуки рядом с ней, день за днём, час за часом.
«А хорошо ли мы придумали эту нашу исповедь? — думал теперь Степанов. — Не знал бы, и ладно. Овцы спокойны, волки сыты… Глупо рассуждаю, подло, — оборвал он себя. — Скрытая беда разве не беда? Вдвойне беда. Коли двое сошлись в семью, должны оба проглядываться до донышка. Зачем тогда близость, зачем семья?» Да они с Валентиной и не сговаривались об исповеди! В первую же ночь близости они рассказывали о себе всё. И потом рассказывали. И не оттого, что частые разлуки ставили под сомнение их чувственную стойкость. Просто каждый не вместе прожитый день они ревновали: свидевшись, нетерпеливо ждали откровений. Исповедью они как бы вознаграждали себя за ущербные дни одиночества. Так было в первые годы. Так было через пять и через десять лет, когда их чувства уже не были столь настойчивы, как прежде. Исповедь стала их семейной привычкой, их приятной обязанностью друг перед другом.
В тот вечер, в который пришла к нему вот эта тяжкая душевная боль, Валентина первой исповедовалась в прожитых днях. Он слушал, радуясь её оживлению, пальцами перебирал её горячие пальцы, когда, рассказывая, она дотрагивалась до его рук.