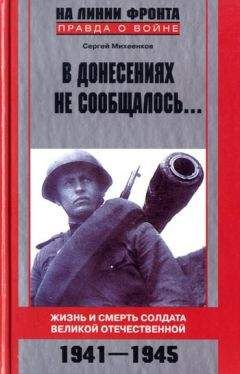Александр Коноплин - Сердце солдата (сборник)
— Еще бы! — перебил его кто-то из солдат. — Такую силищу — дивизию разбросать!
— Танки у него! — отозвался второй. — Кабы не танки, разве бы мы уступили?!
— А мы и не уступим! — сказал Леонтьев. — Уступить— это значит покориться! А мы не покоримся! Разбросал, говоришь, дивизию? Может, и разбросал. Я не видел, не знаю, а поэтому и врать не буду. Разбросать нас можно, а вот победить — нельзя, потому как мы, разбросанные-то, все одно в кучку соберемся! И уж тут держись, доннер веттер, дьявол тебя побери! Вот так я, братцы мои, это дело понимаю. Если кто со мной не согласен, давай высказывайся! Послушаем и тебя!
Но высказываться никому не хотелось. Не хотелось и уходить от Леонтьева. Стояли и смотрели на него, как будто в нем одном сейчас собралось воедино все: и надежда, и уверенность, и знание чего-то такого, чему нельзя не поверить. Вытирая потный лоб, Леонтьев сказал Колесникову:
— Ну, я свое комиссарское сделал. Теперь ваше дело — командовать.
— А чего тут командовать? — сказал Митин. — Раз-виднеется, и пойдем! Только вот не худо бы кольев нарубить. Без них по болоту идти трудно.
Солдаты разбрелись кто куда. Колесников и Леонтьев сели рядом у костра.
— Курить хочется, прямо хоть плачь! — сказал Леонтьев. Колесников достал из кармана трубку, пососал, передал комиссару.
— На, может, легче станет!
Леонтьев с жадностью несколько минут втягивал в себя насыщенный никотином воздух, потом нашел сухой листочек, мелко искрошил, сунул в трубку, прикурил от головни, затянулся. Возвращая трубку хозяину, загляделся на искусную работу мастера.
— Это что же, домовой, никак?
— Сам ты домовой! Мефистофель!
— Кто?
— Мефистофель. Ну черт, что ли, по-нашему. Между прочим, довольно известный персонаж в искусстве. Странно, что ты не знаешь.
Леонтьев откинулся назад, лег, положив локоть под голову.
— Я многого не знаю. Читать, писать выучился в армии, да и то после революции.
— Как же ты комиссаром стал?
— А так же, как ты комбатом! Убили нашего комиссара, командир отряда и говорит: «Из коммунистов, Леонтьев, нас с тобой двое осталось. Мне командовать, тебе — комиссарить». Так вот и стал.
Колесникову показалось, что слова его были неприятны товарищу.
Когда, накурившись листьев, Леонтьев стал возвращать ему трубку, он сказал:
— Оставь у себя, если нравится.
Леонтьев подобрел. Морщины на лбу разгладились. Некоторое время он держал трубку в руке, поглаживал ее пальцами, потом спрятал в карман.
— За это спасибо. Буду беречь. Жалко, отблагодарить нечем. От сапог одни голенищи остались… Однако не худо бы нам соснуть часок. Чует мое сердце: жаркий будет завтрашний день.
Он лег у костра, накрывшись с головой полой шинели.
Колесников сидел, не шевелясь. Слушал ночь. Где-то работал пулемет. Над головой в голых сучьях ивняка свистел ветер. Мела поземка. Над незамерзающим болотом стлался туман.
Только на седьмые сутки, после упорных поисков, нашли наконец проход через топь. Митин с Леонтьевым дважды прошли туда и обратно, прежде чем согласились вести за собой людей. Но, как ни хорошо они знали дорогу, не обошлось без того, чтобы кто-нибудь из отряда через каждые двести — триста метров не проваливался в топь по шейку. Его вытаскивали дружными усилиями, награждали тумаком в спину, и движение возобновлялось. Случалось, что и сам Леонтьев, шедший впереди, сбивался с пути и проваливался.
Движение еще затруднялось тем, что в отряде были раненые. Два легкораненых солдата тихонько плелись в самом хвосте, а санитарку Зину несли на самодельных носилках. Осунувшееся, побледневшее лицо ее не казалось больше таким некрасивым, и только веснушки предательски выступали даже там, где раньше их вовсе не было видно.
Но главное страдание Зины заключалось не в веснушках и даже не в ранении, а в том, что Колесников по-прежнему не обращал на нее никакого внимания. Для него она была такой же боец, как и все, и даже немножечко хуже. Правда, он не выгнал ее из батальона, как выгонял других, но кто знает, что в таком случае лучше: быть любимой вдали от него или нелюбимой — близко… Впрочем, для нее имело значение то, что именно ее, а не другую Колесников вынес из боя на руках… Сейчас, покачиваясь на носилках, она решала очень сложный вопрос: совсем или не совсем безразлична она для Геннадия Колесникова. От этих мыслей у нее разболелась голова, и Зинка не раз уже подумывала о том, как хорошо было в ее жизни, пока не пришла эта незваная и такая неудачная любовь.
Только к вечеру, изрядно поплутав, головные отряда ступили на твердую землю.
Игнат Матвеевич, закрыв с вечера жарко натопленную печь (внучке занедужилось — простыла где-то), мучался теперь у себя на полатях, не зная куда деваться от жары. За ночь несколько раз вставал, садился к столу, курил, даже выходил в сени. К утру начал подремывать и тут услышал, как кто-то осторожно постучал в окно. Сперва старик подумал — чудится ему. Из деревни в глухую ночь никто приехать не мог, немцы по ночам тоже не ходили — боялись партизан. Игнат Матвеевич долго лежал, слушал, про себя соображая, кто бы это мог быть. Хутор его стоял в такой глуши, куда добрый человек, разве что с помощью нечистой силы, иначе и не попадет без провожатого. Сам-то хутор на взгорочке, а вся, как есть, низина вокруг — сплошное болото. Ни вспахать, ни посеять, разве что — сенокосы. Раньше Игнат Матвеевич ими и кормился: накосит сам, либо пустит кого на свой покос — глядишь, и денежка завелась. Свое хозяйство, хоть и небольшое, а было. В колхоз не вступил не потому, что был против колхозов. Считал, что стар и не хотел быть людям обузой. В последнюю зиму и вёсну перед войной особенно сильно нездоровилось. Раз уж под образами лежал… Из села священник приходил, исповедовал. Ничего, понемножку отдышался. Не иначе господь не допустил внучку оставить круглой сиротой.
…А стук все громче, все настойчивей. Уж не пожар ли? Долго ли до греха? Нынче пришлых людей по лесам шатается — страсть! В воскресенье деревенские за медом приходили, рассказывали: в Красном у Прохора Васильева четыре стожка спалили.
Кряхтя, сполз старик с полатей, подобрался к окну сбочка, глянул сквозь мутноватое стекло.
На дворе какие-то люди стоят. Прямо перед собой, нос к носу, увидел Игнат страшное, воспаленное ожогом лицо. Два больших глаза смотрели на него, не мигая. Жуть взяла старика. Засуетился по избе, заметался из угла в угол. Что за люди?
А в окно все настойчивей, все громче стучат. «Ах, господи помилуй! Спаси и сохрани, матерь Пресвятая Богородица, Никола Чудотворец!» Ноги в коленях дрожат — не унять, в сенях насилу крючок откинул, толкнул дверь, сам у порога присел: от страха ноги не держали.
Первым шагнул высокий с обожженным лицом и наганом в руке.
— Кто здесь? — Взял Игната Матвеевича за плечо. — Хозяин? Немцы есть? А ну, веди в избу!
Ноги у старика слушаются плохо. Высокий оглядел хату, заглянул на печь, крикнул в сени:
— Входите, мужики!
Затопали, повалили друг за другом.
— Свет давай, старик!
Спички, как на грех, запропастились куда-то… Пока искал, гости сами разыскали лампу, засветили огонь.
— Ну, здравствуйте, папаша, принимайте гостей! — сказал высокий.
Наган за поясом, сам не поймешь кто. Вроде командир. Самый пожилой из них, усатый, толстогубый, сказал басом:
— С вами живет кто-нибудь еще?
Глянули за перегородку, увидели Манюшку, отошли на цыпочках, зашикали на тех, кто громко разговаривал.
— Пошамать нет ли, отец? Четверо суток маковой росинки не было во рту!
Старик собрался с силами, спросил:
— Кто такие будете? Разбойнички али как?
— Русские мы, отец, советские.
— Не дезертиры?
— Нет, папаша, из окружения выходим. Через Непанское болото шли. Думали, вовсе не выбраться.
— Через Непанское, говорите? А в каком месте? — спросил, осмелев, старик. Усатый, как мог, объяснил. Игнат Матвеевич недоверчиво покачал головой: через эти места четвероногая тварь, окромя лося, еще не хаживала, да и то разве когда его волки гонят, а чтобы люди… Ничего не сказал, промолчал. Им виднее. Из печки достал чугунок щей небольшой, литров на пять. Им с внучкой на три дня в аккурат хватало. Достал чугунок каши. Поставил на стол.
— Не обессудьте. Чем богаты…
Высокий поджал губы.
— Не жирно на всех-то! Картошечки нет?
— Утром варю. Теперь нету.
— А это что? — двое солдат в сенях разыскали ведро вареной картошки. — Пожалел, старый хрыч! Мы ж за тебя кровь проливаем, а ты…
— Обожди-ко! — Леонтьев движением руки остановил молодого. — Для кого картошку припас, дед? Скотины ведь нет у тебя!
Колени Игната Матвеевича опять начали мелко дрожать. Сказал, еле ворочая языком от страха: