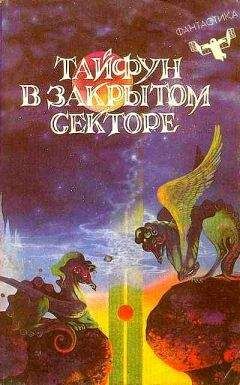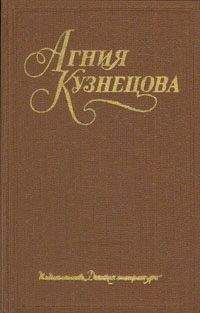Александр Солженицын - Один день Ивана Денисовича
Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок! Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят — опять в зону не пускают. Бдительность травят.
Ну! Вышли начкар с контролёром из вахты, по обои стороны ворот стали, и ворота развели.
— Р-раз-берись по пятёркам! Пер-рвая! Втор-ра-я!
Зашагали арестанты как на парад, шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, а там не учи, что делать.
За вахтой вскоре — будка конторы, около конторы стоит прораб, бригадиров заворачивает, да они и сами к нему. И Дэр туда, десятник из зэков, сволочь хорошая, своего брата-зэка хуже собак гоняет.
Восемь часов, пять минут девятого (только что энергопоезд прогудел), начальство боится, как бы зэки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались, — а у зэков день большой, на всё время хватит. Кто в зону зайдёт, наклоняется: там щепочка, здесь щепочка, нашей печке огонь. И в норы заюркивают.
Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, — и придурком[11] работает в конторе, помощником нормировщика.
А остальная 104-я сразу в сторону, и дёру, дёру.
Солнце взошло красное, мглистое над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено, авторемонтные мастерские под перекрытие выведены, а на бугре — ТЭЦ в начале второго этажа.
И — попрятались все. Только шесть часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть! Старший прораб сколько, говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера — а никак не наладят. Потому что с вечера до утра у них всё наоборот поворачивается.
А миг — наш! Пока начальство разберётся — приткнись, где потеплей, сядь, сиди, ещё наломаешь спину. Хорошо, если около печки, — портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут тёплые. А и без печки — всё одно хорошо.
Сто четвёртая бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени и 38-я бригада бетонные плиты льёт. Одни плиты в формах лежат, другие стоймя наставлены, там арматура сетками. До верху высоко, и пол земляной, тепло тут не будет тепло, а всё ж этот зал обтапливают, угля не жалеют: не для того, чтоб людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит.
Тридцать восьмая, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обсела, портянки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку, ничего.
Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку упёрся. И когда он отклонился — натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он ощутил, как подавливает твёрдое что-то. Это твёрдое было — из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда — пять часов, протяжно.
А что в спине поламывало — теперь в ноги перешло, ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы!..
Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа её в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпицы не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронёс под двумя одёжками, грел его собственным теплом — и оттого он не мёрзлый был ничуть.
В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а ещё раньше, по-без-колхозов, мясо — ломтями здоровыми. Да молоко дули — пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо — чтоб думка была на одной еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнёшь, и щеками подсасываешь — и такой тебе духовитый этот хлеб чёрный сырой. Что́ Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го!
Так Шухов занят был своими двумястами граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я.
Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, по очереди, курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. И ели они всё пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились — всё промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда Советы уставились,{15} ребёнком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад, дурандай, на родину, институт кончать. Тут его и взяли сразу.
Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось.
И все сидели — кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый в мысли свои упёрся, молчит. Фетюков-шакал насобирал где-тось окурков (он их и из плевательницы вывернет, не погребует), теперь на коленях их разворачивал и неперегоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей трое, но как сел — от него все отказались, а жена замуж вышла: так помощи ему ниоткуда.
Буйновский косился-косился на Фетюкова да и гавкнул:
— Ну, что заразу всякую собираешь? Губы тебе сифилисом обмечет! Брось!
Кавторанг — он командовать привык, он со всеми людьми так разговаривает, как командует.
Но Фетюков от Буйновского ни в чём не зависит — кавторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал:
— Подожди, кавторанг, восемь лет посидишь — ещё и ты собирать будешь.
Это верно, и гордей кавторанга люди в лагерь приходили…
— Чего-чего? — недослышал глуховатый Сенька Клевши́н. Он думал — про то разговор идёт, как Буйновский сегодня на разводе погорел. — Залупаться не надо было! — сокрушённо покачал он головой. — Обошлось бы всё.
Сенька Клевшин — он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, ещё в сорок первом. Потом в плен попал, бежал три раза, излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул, теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадёшь.
Это верно, кряхти да гнись. А упрёшься — переломишься.
Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает.
Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок — полукруглой верхней корочки — оставил. Потому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов, пусть теперь на работу шлют. А лучше б и ещё помедлили.
Тридцать восьмая бригада встала, разошлась: кто к растворомешалке, кто за водой, кто к арматуре.
Но ни Тюрин не шёл к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут двадцать, а день рабочий — зимний, укороченный — был у них до шести, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко.
— Эх, буранов давно нет! — вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильдигс. — За всю зиму — ни бурана! Что за зима?!
— Да… буранов… буранов… — перевздохнула бригада.
Когда задует в местности здешней буран, так не то что на работу не ведут, а из барака вывести боятся: от барака до столовой если верёвку не протянешь, то и заблудишься. Замёрзнет арестант в снегу — так пёс его ешь. А ну-ка убежит? Случаи были. Снег при буране мелочкий-мелочкий, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу, через проволоку перемётанному, и уходили.
Недалеко, правда.
От бурана, если рассудить, пользы никакой: сидят зэки под замком; уголь не вовремя, тепло из барака выдувает; муки в лагерь не подвезут — хлеба нет; там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул — три ли дня, неделю ли, — эти дни засчитывают за выходные и столько воскресений подряд на работу выгонят.
А всё равно любят зэки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернёт — все на небо запрокидываются: матерьяльчику бы! матерьяльчику!
Снежку, значит.
Потому что от позёмки никогда бурана сто́ящего не разыграется.
Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады, его оттуда шуранули.