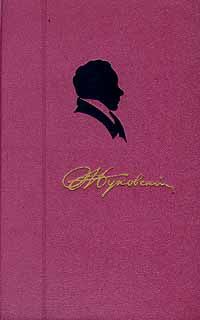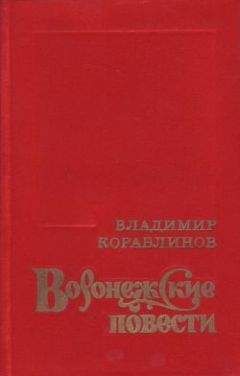Евгений Толкачев - Марьина роща
Гуляет преимущественно молодежь. Фабричные парни и девушки держатся стайками, жмутся в кучу; потом глаза разбегаются, то один, то другая, зазевавшись, уносятся потоком и пропадают: ау, Катя!.. Скоро только отдельным парам, крепко схватившимся за руки, удается держаться вместе, и от этого еще веселее, еще забавнее плыть в бурлящем, гомонящем течении.
Солидная возрастом публика, захваченная водоворотом, попадает в смешные положения: вот проплыла высокая дама в сбитой на затылок шляпке, красная от негодования и духоты; вот чистенький чиновник в фуражке потерял очки и близоруко тычется во все стороны; вот спиной вперед несет толстую деревенскую тетку, она окончательно растерялась и не знает, то ли ей зареветь в голос, то ли смеяться вместе с молодежью. Какой-то особый вид общения устанавливается между людьми в тесной толпе… И над всем — вой и писк «уйди, уйди» умирающих свинок, щелканье «тещиных языков», свист и гудение дудок и сопелок. Праздник…
А вокруг торга, по узким, метра в три, проездам от Никольской, мимо Исторического музея, затем вдоль стены от Никольских до Спасских ворот, дальше мимо Лобного места до угла Ильинки и вдоль рядов, вереницей в бесконечном кружении шагом тянулись экипажи. По двухсотлетней традиции в вербную неделю московское купечество вывозило на смотрины невест на выданье.
Тесно стояли на тротуарах зрители: кто специально пришел полюбоваться выездом, кто попал случайно. Во все глаза глядели молодые девушки на новые наряды, на манеры невест, не одна, вздохнув, воображала и себя едущей в пролетке под завистливыми и восторженными взглядами окружающих. Молодые приказчики и писцы смутно ожидали нечаянного счастья: вдруг заметят его красивое лицо, его вдохновенный взгляд, и в один чудесный день получит он загадочное письмецо с назначением свидания, после чего неизбежна свадьба с влюбленной миллионщицей. Пожилые женщины вздыхали, вспоминая свою молодость, солидные знатоки охотно делились своими познаниями о капиталах катающихся.
На плечах у отца сидит мальчуган. Отцу, по платью видно из мещан, интересно людей посмотреть и послушать, а мальчонку больше всего поразил памятник.
— Пап, а пап! — пристает он к отцу. — А эти двое кто, вон те, железные?
— Эти? Это, брат, памятник. Который сидит — князь Пожарский, а который стоит — купец Минин.
— Ну да, — обижается сын. — Ты обманываешь! Какой же это купец, у него коленки голые?..
Отец в затруднении. Он и сам не понимает, почему русских патриотов нарядили в одежду римских воинов.
— Ладно тебе, Федька, коленки смотреть. Может, они так для легкости ходили… А вот смотри, смотри, опять невесты едут. Ух ты, как разукрашены! Вот где богатство-то!..
Невесты чувствовали себя на первых ролях. Одна делала вид, что нисколько, ну нисколько не замечает чужих взоров, другая с преувеличенным оживлением щебетала с маменькой или степенной тетушкой, третья ехала с неземным выражением лица и томной бледностью ланит, четвертая, наоборот, выставляла напоказ добротное сложение и румянец во всю щеку…
Не здесь, конечно, решалась судьба солидных бракосочетаний, но тем нравился обычай, что каждый находил в нем что-то для себя: одни показывали, другие смотрели наряды и убранство; кто встречал знакомых, а кто был просто рад окунуться в гущу народного веселья. Богатое купечество давно чуралось старых обычаев и подражало европейцам. А здесь процветало среднее замоскворецкое купечество да вчерашние приказчики, только-только вступившие в гильдию. Одни посылали сюда свои экипажи из упрямства и верности обычаю, другие торопились скорее войти в сословие.
Теперь, в конце века, уже не слышно было таких разговоров:
— А вот едут Боткины, две сестры. За каждой по миллиону.
— Врешь?
— Чего врать? Не знаешь, что ли, наших чайных миллионщиков? Боткин, Губкин да Перлов…
Так и сыпались цифры приданого дочерей именитого купечества: Солдатенковых, Боевых, Кузнецовых…
Накануне нового века поблекли знаменитые выезды, и старожилы, знающие всех и вся, редко оценивали приданое проезжающей невесты выше ста тысяч.
* * *Сваха толкнула Петра локтем:
— Смотри-ка, твои едут! Да не там, вон, на вороной паре.
В открытом ландо сидела полная женщина с очень белым лицом, в кружевной тальме и капоре со стеклярусом. Рядом с ней — ничем не примечательная девица в голубом. Напротив, на скамеечке, — вертлявая горничная. Как ни смотрел Петр, не мог разобрать лица невесты.
— Хороша? Нравится? — приставала сваха.
Петр постыдился сказать, что не разглядел невесту, и смутно ответил:
— Ничего.
Сваха всплеснула руками:
— Ничего-о? Да какого же тебе, батюшка, рожна еще надо? Красавица, я тебе говорю! Вот поедут еще раз, я им знак подам, а ты фуражку сыми и поклонись.
Ландо проплыло еще раз. Петр низко поклонился, старуха ему кивнула, горничная фыркнула, а невесту он опять не разглядел.
— Подождем, пока опять поедут, — попросил он.
— Ага! — засмеялась сваха. — Забрало-таки! Только они больше не поедут, не полагается. Ступай домой, а я дам знать, что надо дальше делать.
Петр шагал в некотором смущении. Любовь явно не давалась ему в руки. Вдова Кулакова? Один расчет, никакой любви тут не было. Потом случайные, очень короткие связи, но и это опять не любовь. А тут? Может быть, теперь и придет настоящая любовь, о которой говорят, что она захватывает человека всего целиком?
Он размышлял, а ноги сами несли его привычным путем по Неглинной. «Так-то, Петр Алексеевич. Что с тобой творится? Возносишься ты в вышние края… Был ты желторотый несмышленыш из нищей деревни, а за семнадцать лет что с тобой город сделал…»
Вспомнил он, как привезли его добрые люди после смерти отца из голодной костромской деревни в Москву, в трактир Кулакова, где служил половым земляк, бобыль Арсений Иванович.
Арсений Иванович поморщился, но мальчишку оставил и, выждав время, поклонился хозяину. Кулаков взял Петьку в дом. Началась для Петьки обычная жизнь мальчика на побегушках. Вместе со сверстником Савкой Кашкиным, жителем Марьиной рощи, они делали все по дому и присматривались к трактирному быту.
Трактир Кулакова стоял неподалеку от проезжей дороги на Останкино и в былое время процветал: не только по праздникам захаживали гуляющие, но наезжали ямщики и обозные — самые желанные гости для трактирщиков. Ямщиков и подводчиков встречали поклонами, как именитых купцов, ухаживали за ними, как за богачами; у дорогих гостей от гордости дух захватывало, и они готовы были всеми средствами доказать широту своей натуры. Можно было и покуражиться, и возмечтать, а почтительные «шестерки» — подавальщики поддерживали любую похвальбу тороватого гостя. Такова уж трактирная установка: кто платит, тот все может.
Кулаков — наследственный трактирщик. Отец его держал постоялый двор на Троицком тракте и сытно кормил обозников. Разносолов у него не полагалось, и такса была старинная: без выхода — гривна, с выходом— пятиалтынный. Сел за стол — ешь и пей, сколько душа принимает, на свою гривну. Но коли встал из-за стола и вышел по надобности хоть ненадолго, — плати пятиалтынный.
Умер отец, уважаемый всеми посетителями, но никаких капиталов не оставил: сильно пала в цене гривна. Продал сын постоялый двор, купил трактир в Марьиной роще. Здесь, у самой Москвы, не сумел он разбогатеть, а может, и не старался. Детей у него не было; жена моложе его, но хворая, безрадостная, равнодушная ко всему, что ее не касалось.
Жил Кулаков скучно, все о чем-то задумывался. Его равнодушие не радовало и не обижало окружающих.
Скоро Петька стал постигать несложные способы угождения хозяину, вихрем летал по поручениям гостей, и не одна семитка перепадала ему за расторопность. Савка был медлительнее, тяжелее на ходу, раздумчивее. Ребятам в общем повезло, их не мучили, не перегружали работой. Кулаков с женой были, что называется, добрыми людьми. Ребята подрастали, из мальчиков становились юношами.
Трактир — что клуб, здесь всё знали. События порой доходили сюда в искаженном виде, но все же доходили. В трактире бывали всякие люди, и от каждого можно было узнать что-нибудь полезное. Пытливый крестьянский ум бойкого Петьки жадно и без разбора впитывал всё: и горький протест обиженного ремесленника, и долгие степенные рассуждения подводчиков, и похвальбу удачливого вора, и косноязычный лепет пьяного, и цветистую мудрость народную. Все это складывалось в емкие хранилища памяти, и годы перерабатывали детские впечатления в правила жизненной игры.
Трактир получал газеты. Петька легко выучился читать и умел подмахнуть фамилию — Петр Шубин — с замысловатым росчерком, но писать письмо или расписку было трудно: буквы получались бестолковые, раскоряки. Антон Иванович, отставной чиновник, завсегдатай «Уюта», писавший трактирным клиентам письма и прошения, сердился: