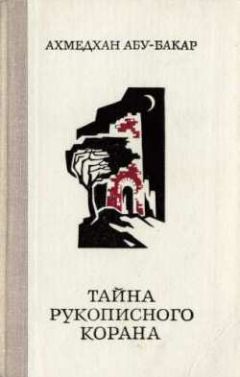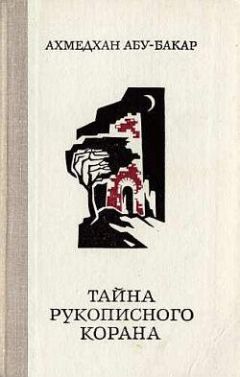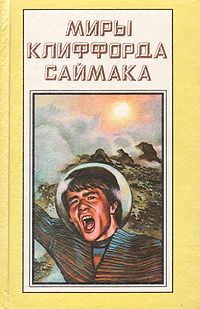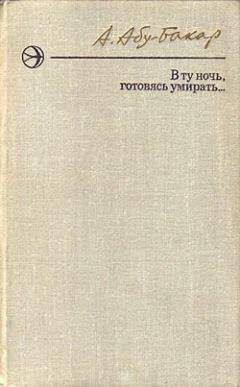Ахмедхан Абу-Бакар - Снежные люди
— Воображаю! Ты, наверное, измучилась...
— Нет! Совсем нет... Я засыпала, просыпалась, опять засыпала, а он чирикал, щебетал, ворковал...
— А ты хоть расслышала, что там... говорил Адам?
Хева снова прижала ладони к горячим щекам и опустила глаза.
— Разные... слова...
— Ой, Хева! — воскликнула в отчаянии Айшат. — Легче принять ребенка у роженицы, чем поговорить с тобой. С этим каменным пугалом, с Хажи-Бекиром, ты вовсе разучилась говорить!
Хева подняла глаза: удивленные, недоуменные, сияющие.
— Не сердись, подружка! — тихо попросила она. — Я скажу тебе... Он говорил слова, которые я слышала разве только в детстве.
— В детстве?!
— Да, от матери... И больше никогда; понимаешь, никогда; Я уж и позабыла их. А теперь...
Хева вдруг поднялась, выпрямилась, провела ладонями по груди, по бедрам, спросила зазвеневшим тревожным голосом:
— Вот ты скажи мне, скажи правду, подружка: я ведь ничего? Я ведь еще красивая? Да?
— Ты очень красивая, Хева, — ответила Айшат неуверенно; сильно хотелось ей ободрить, поддержать подругу. Так бывает весной, когда разорвутся тучи, и солнце пригреет на лесной опушке какую-нибудь дикую сливу, и в одну ночь зашевелятся и приоткроются, как сонные глаза, бутоны, и выглянут на свет нежно-розовые лепестки. Кто захочет морозным дыханием убить их нежную красоту? Айшат глядела на Хеву и в самом деле чувствовала, что она стала другой: непосредственной, свободной, веселой, гордой! Перед Айшат стоит молодая женщина, которая вдруг ощутила свою привлекательность и силу.
— Конечно, я не Ширин, ради которой рушил скалы Фархад; не Лейла, которую искал и не мог найти Меджнун, но я...
— Ты лучше, ты — Хева! — обняла ее Айшат, привлекла, снова усадила на тахту рядом.
— Я сказала неправду, Айшат,— говорила Хева, блестя глазами. — Он говорил и те слова, мамины, которые я слышала маленькой, ребенком. Но еще он говорил много-много и других слов, которых я в жизни не слыхала, даже не знала, что такие бывают...
— Скажи, подружка! Ну, припомни... Ну, хоть немножко.
Айшат разбирало любопытство.
— Я же не могу так красиво говорить. И слышала-то первый раз! Ну, хорошо, хорошо, попробую вспомнить... Постой, постой! Кажется, так... — Хева, запинаясь, произнесла: — «Ты не тем дорога для меня, что телом стройная, легкая, а тем, что душой ты прекрасная и шепчешь ласковые слова...»
Она подумала и заключила:
— Как будто бы так...
— Да это же стихи! — воскликнула Айшат.
— Ну, значит, стихи, — согласилась Хева. — А скажи, подружка, может быть... Может быть так, что Адам... Ну, сам придумал... эти стихи?
— Не думаю! — осторожно возразила Айшат. — Как будто бы я читала их в книжке.
— Тебе виднее. Наверное, так... — но тут же запротестовала: — А все-таки я знаю, я уверена, что Адам может и сам придумать, сочинить стихи! И вовсе он не бедный, не больной, нет! Он самый здоровый, самый богатый в Шубуруме. И должно быть, не только в Шубуруме! Да!
— Ой, ты зачаровала меня своим превращением, — спохватилась Айшат. Радость Хевы странно отозвалась в сердце врача: ей и самой захотелось такой радости; Айшат поймала себя на том, что завидует подруге. Да, да, завидует! — Ну, я пошла.
— Да посиди, мне так хорошо с тобой. Посиди.
— Зайду в другой раз. Больные ждут...
И подруги расстались. Хева еще раз погляделась в зеркальце, поправила волосы, открыла немного шею, грудь, провела рукам по талии — ей было легко. Ей казалось, что нежные, мягкие, как пух снежной синицы, слова Адама сыплются на ее еще никем не замеченные, еще не обласканные белые женственные плечи нескончаемым дождем сверкающего бисера. Хеве чудилось, будто она светится изнутри, как праздничный фонарь. Сегодня Хева ощутила себя равной Ширин, Лейле, величайшим красавицам мира: ее впервые воспел мужчина.
— «Ты не тем дорога для меня...» — повторила Хева и засмеялась.
После этой встречи в сакле Адама Айшат шла в смутном и странном настроении, не очень понятном ей самой; в девичьей душе проснулось томящее желание любить и быть любимой, а вместе и неясная радость предвкушения; словно бы Хева зажгла в ней старинный горский светильник, неяркий и беспокойно отзывающийся на всякое дуновение...
Раньше, до института, Айшат, быть может, иначе смотрела на шубурумских парней, но теперь девушке кажется, что она далека от них, как вершина Дюльти-Дага от прикаспийской равнины.
А между тем немало юношей Шубурума глядят на врача восхищенными, жадными, ревнивыми глазами. И в первую очередь ветеринар Хамзат, про которого поговаривают, что он привязал себя к Айшат, как горец привязывает бурку к седлу: не оторвать! Однако врач старается избегать Хамзата и охлаждать его пыл при встрече. «Все здешние — вроде Хажи-Бекира», — думает сейчас с отвращением Айшат и мечтает встретить совсем иного, невиданного человека. Пусть бы даже некрасивого. Сегодня Айшат поняла что-то новое в мужской красоте...
В это утро врач впервые ощутила странную тревогу, идущую по аулу, будто круги по воде, и забеспокоилась, сама не зная отчего, насторожилась.
По дороге в больницу она свернула к сакле бабушки Айбалы, которая хворает уже пять дней. Старая Айбала — жена Хужа-Али, мать жены «сельсовета Мухтара», мать матери Айшат...
К бабушке Айбале Айшат всегда была привязана больше, чем к матери. Старая Айбала угощала внучку грецкими орехами и разными сладостями да пряностями из пестренького сундука, открывавшегося с мелодичным звоном. Эта мелодия, как солнечный зайчик, и сейчас трепещет в душе девушки. А сколько разных разностей поведала ей бабушка в долгие зимние ночи, когда за окнами и за воротами выл и свистел свирепый ветер, что сорвался с вечных снегов Дюльти-Дага! Айшат особенно любила сказки про легендарных джигитов, которых приветствовали орлы в вышине и с которыми здоровались львы в пустыне... И каждый раз, заканчивая сказку, бабушка вздыхала и говорила:
— Вот появится у нас такой красавец джигит и увезет тебя, внученька, когда станешь взрослой, далеко-далеко в сказочную страну...
— А откуда он узнает обо мне? — спрашивала маленькая Айшат: она верила каждому слову бабушки.
— О внученька, ты вырастешь такой красивой, что молва о тебе пройдет по всему свету и он увидит тебя во сне...
— Во сне?! — удивлялась Айшат, прижимаясь к бабушке.
И скажет он утром родителям: «Мать моя дорогая, испеки мне румяный чурек, заполни хурджин — одну суму сладостями, а другую подарками; а ты, отец мой, оседлай мне коня вороного. Я в путь-дорогу собираюсь...»
— А зачем подарки?
— Чтоб украсить ожерельем твою белую грудь и перстнями твои белые ручки.
— А как он узнает меня?
— Да ты сама будешь ждать.
— А как я его узнаю?
— В один прекрасный день появится в Шубуруме, еще издали удивляя людей, красавец джигит на славном вороном коне с белой отметиной во лбу, а на всаднике будет зеленая черкеска с золотыми газырями, и белоснежная андийская бурка на плечах, и красный башлык, как тюльпан... Конь под ним будет плясать лезгинку: гудур-гудур-гудур-май... Ай-да гудур-гудур-май! Люди будут смотреть разинув рты: мол, кто это и откуда?! В чьем саду вырос такой герой? И зачем пожаловал он в наш старый Шубурум?
— А он им что скажет?
— Он лихо спешится перед людьми и скажет: «Я приехал за красавицей Айшат, где она?»
— А я выбегу и скажу: «Вот она я!»
— Это ты сейчас можешь сказать, а когда будешь взрослая, тебе станет стыдно, и ты закроешь шарфом лицо.
— А зачем?
— Так надо.
— А вдруг он не узнает меня?
— Узнает! Но тут произойдет беда: на глазах у джигита тебя похитит страшный каптар...
— Нет, нет, нет, я не хочу!
— Ну, а потом этот джигит освободит тебя от каптара и...
— И что?
— И будет такая свадьба, какой от сотворения мира еще не видели шубурумские высоты: станут плясать и звери, и птицы, и деревья — все живое будет радоваться... А теперь дай-ка вытру тебе нос!
И детское впечатлительное сердце сохранило сказку, она не исчезла, а проникала все глубже; и девушке хочется во все это поверить и убедить себя, что сказка сбудется; но как поверить, когда с той детской поры прошло столько лет... Да и не носят теперь горцы черкесок с газырями, разве только на сцене. И коней становится все меньше, теперь горцу подавай машину, да не грузовую, а легковую... И все-таки смутная мечта не покидает Айшат: а вдруг сбудется?! Бывают же в жизни чудеса! Почему бы не появиться такому джигиту в Шубуруме? Конечно, повзрослевшая Айшат никому об этом не рассказывала, но однажды больные кое-что полушутя у нее выпытали: уж очень им хотелось знать, почему она не выходит замуж, чего ждет? И с тех пор в ауле стали поговаривать, что Айшат ждет жениха, что в городе — там, на берегу моря, — наверняка были у нее шуры-муры, а может быть, есть даже и муж... Нет, нынешние девушки — одно недоразумение; вон, говорят, в городе теперь не отличишь парня от девушки,— ну и времена настали! Девушки, говорят, ходят теперь в штанах, а парни в платках: подумать только! Все на свете перевернулось, только восход и закат не поменялись местами! Девушки, говорят, стригутся под парней, а парни — под девушек. Что это? То ли девушки сошли с ума, то ли парни забыли о мужской чести...