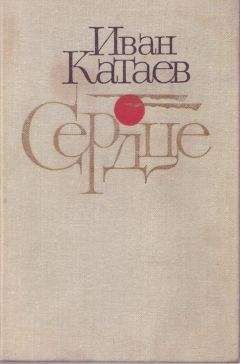Виктор Конецкий - Том 2. Кто смотрит на облака
Без стука вошла в комнату девчонка лет тринадцати с гитарой в руках, остановилась возле порога, спросила:
— Так ты на самом деле уезжаешь, дядя Ваня?
— А, — сказал летчик, любуясь девчонкой, — Карменсита пришла! Смотри, капитан, в эту Карменситу все здешние мальчишки влюблены. Хороша будет, а? — Он опять хвастался девчонкой, как своей собственностью.
— Вот еще! — сказала Карменсита. Красная лента в черных волосах, короткая юбочка.
— Спой на прощанье, детка! — приказал майор. — «Землянку»!
— Я не могу сразу, дядя Ваня.
— Времени нет, детка, разгон брать. А мы глаза закроем, хочешь?
— Не надо! — сказала Карменсита. — В госпиталях еще труднее петь, — и стала перебирать струны, настраивая гитару. Потом подошла к кровати, поставила ногу на перекладину и запела: «Бьется в тесной печурке огонь…» Но песня не получилась у нее, она остановилась, спросила:
— Значит, ты насовсем уезжаешь?
— Выходит так, детка.
— Я тебя никогда не забуду, дядя Ваня! — сказала Карменсита и заплакала. — Мы все тебе писать будем, ты нам полевую почту пришли. — И она скользнула из комнаты.
— Ее Надя зовут. Надежда, — сказал майор и от некоторого смущения за свою растроганность выругался. Потом, топая сапогами, вышел из комнаты. В коридоре загремел его голос:
— Хозяюшка, бельевую веревку выдай, а? Верну сразу! Нет? Врешь, поди, хохлацкая душа?!
Он вернулся с двумя пустыми водочными бутылками и с порога кинул одну Басаргину:
— Ну, капитан, тебе, пехтуре, и карты в руки. Метни противотанковую!
Басаргин старательно прицелился и бросил бутылку. И конечно, промазал. И конечно, бутылка разбилась в двух шагах от милиционера, который вдруг вывернулся из-за угла. Мальчишки шуранули врассыпную. А летчик, называя милиционера «Яшка», объявил ему с высоты третьего этажа все про пилку. Потом вытряхнул из своей бутылки каплю на ладонь, слизнул и запустил бутылку. И попал, конечно.
До поезда оставалось двадцать минут. Басаргин взял чемодан летчика и пошел к дверям. Он завидовал майору. И, главное, тем, кто воюет с ним вместе.
По дороге до вокзала майор все вырывал у него чемодан, пыхтел, жаловался на жару и обещал передать привет Маннергейму не позже декабря.
Поезд задерживался с отправкой, как будто машинист ждал летчика специально.
Пропустив последний вагон, посмотрев ему вслед и незаметно плюнув на рельсы — тоже детское еще, какая-то примета, обеспечивающая счастье уезжающему, — капитан Басаргин вышел на привокзальную площадь и почувствовал свободу от забот и легкость.
Явиться в часть он должен был завтра. Крышу своей части он видел невооруженным глазом. Ночлег у него был обеспечен прекрасный. И от всего этого благополучия ему стало совестно.
Сумасшедшая старуха сидела в скверике, сматывая с чудовищно распухших ног бинт. Когда Басаргин проходил мимо, она схватила его за полу гимнастерки и запричитала:
— Помоги убогой, родненький!.. С тюрьмы еду, третий день маковой росинки во рту не было!.. Уступи хлебца кусочек! Я тебе бинтик отдам, родненький!..
Пустые глаза старухи были сухими, без слез.
Басаргин дал ей сто рублей. И когда отошел, то ощущение свободы усилилось в нем. Он как бы заплатил за беззаботность на этот вечер. «Господи, — думал Басаргин. — Мы живем один раз, один-единственный. И каждый день, уходя, не возвращается больше никогда. Надо стараться чувствовать эту жизнь. И свою сорокадвухлетнюю, и жизнь этого ишака, и этого урюка. И вот по тротуару идут с работы домой молодые женщины, и на заборе висит афиша „Сильвы“, и вон семечки на асфальте, и асфальт мягкий от дневной жары…»
Он купил билет и пошел в оперетту. Над деревянной загородкой летнего театра поднимались густые кроны дубов. Деревянные скамьи без спинок были полупусты. Усталая Сильва тяжело бегала по гулким доскам летней сцены. Бони был похож на обезьяну. Но оркестр играл весело, с подъемом. Быстро темнело, и слушать музыку среди черных деревьев и вечерней прохлады было хорошо. Грезилось счастье, и верилось, что рано или поздно оно придет. И как обычно, когда Басаргину было хорошо, ему недоставало брата.
Они по-настоящему дружили. Петр Басаргин даже не женился. Дочка младшего брата давала ему достаточное утешение в том, что жизнь не совсем закончится со смертью. Кровь, которая текла в Веточке (так звали племянницу), — его родная кровь.
Последний раз они встретились с братом за день до начала войны. Брат был моряк, плавал на линии Ленинград — Гамбург и в день их встречи выглядел уныло.
Они сидели в сквере перед гостиницей «Астория». Брат вполголоса рассказывал о Германии. О стали, чечевице и хлебе, которые сплошным потоком шли от нас в Гамбург. О том, что он никогда не чувствовал себя таким русским, таким советским человеком, как под взглядами штурмовиков. Штурмовики ворвались и силой обыскали его судно, несмотря на протест капитана.
Брат был уверен: война начнется с часу на час. А Петр Басаргин не верил в это. Его тревожили опасные, острые слова брата. И старший убеждал младшего держать язык за зубами. Если мы заключили с немцами договор, значит, в этом есть какой-то высший смысл. И они даже слегка поссорились в эту свою последнюю встречу. Но потом обнялись перед расставанием, хотя, как и большинство мужчин, стыдились таких сантиментов…
Теперь Пашка плавал где-то на севере. За него было тревожно. И тревожно за стариков родителей, которые сидели в блокадном Ленинграде и никуда, упрямо и непреклонно, не хотели уезжать. Но дочка брата жила в Сибири, в полной безопасности. Петр поделил свой денежный аттестат между стариками и племянницей. Теперь, из Азии, он еще рассчитывал помогать им посылками.
— Частица черта в нас… — бормотал Басаргин, шагая по совершенно пустынным улицам домой. Гундосили цикады. Звезды мерцали. Звенели арыки. За дувалом ударял в каменистую землю кетмень. Волнение от предчувствия близкого счастья теснило Басаргину грудь. Он знал в себе это тревожно-приподнятое настроение. Оно появлялось иногда среди самой неподходящей обстановки. Трудно становилось дышать. Причины волнения были неуловимы. Это настроение, Басаргин знал, было ложным. Никакое счастье не ждало впереди. Но предчувствие волновало.
Долго не спалось. Все еще непривычно было лежать под одной только простыней. Не хватало тяжести шинели, полушубка. Легкость мешала. А может, мешало и другое — тишина. Полтора года военного гула, грохота боев, стука бесконечных эшелонов. И вот — тишина и шепот листвы.
«Господи, — думал Басаргин, — неужели это правда, что я мог протянуть руку и тронуть крест на броне танка? Неужели это было? Неужели был этот запах солярного выхлопа, горячего масла и пыли? Какая тупая, серая сила в моторе и гусеницах! Как похож танк на бездушное животное. Как тяжело смотреть в его глаза и не опускать свои! Черт знает, кто помог мне остаться порядочным человеком во всем этом кошмаре. Какой я солдат? Я все время был на пределе напряжения, чтобы сохранять порядочность. Какой я солдат, если три четверти сил уходит на страх перед тем, что ты можешь струсить. Солдат не должен думать о том, что может струсить. И не должен заранее мучиться по такому поводу. И не должен уставать от неуютности. Настоящему солдату должно быть уютно на войне, в любом месте он должен уметь создать себе уют. Нельзя бояться струсить больше смерти. И мне еще доверяли людей! Какое счастье, что я не наломал дров…»
3Если пробираться возле самых заборов, можно ходить босым по зимним улицам южного городка. Конечно, очень холодно ступать по комковатой от ночного заморозка грязи. Но хуже то, что стыдно. Тебе четырнадцать, и есть на свете Надя, она учится на пятерки, поет песни совсем как взрослая. Она поет: «Похоронен был дважды заживо, жил в окопах, в землянках, в тайге…» Большая, суровая, взрослая, красивая встает из песни чья-то жизнь. Какой-то взрослый мужчина воевал, и падал на снег, и вставал, и шел в атаку. О нем поет Надя, она делается равной для него. А тебе надо прожить несколько лет до взрослости. И поэтому, наверное, так щемяще-тоскливо на душе, когда поет Надя: «Я люблю подмосковную осень…» Скорее стать мужчиной, солдатом. Надя поет: «Пропеллер, громче песню пой, неся распластанные крылья… В последний бой, в последний бой летит стальная эскадрилья…» Можно только курить непривычный табак, курить до тошноты и жевать потом горькие листья мяты. Нельзя расстраивать мать, ей и так досталось. Надя поет: «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза…» Если бы она пела и о тебе… Она смеется. Ей смешно, что сегодня учительница по немецкому не пустила тебя в класс.
— Ниточкин, я тебя предупреждала: босым больше не приходи. Я понимаю, сейчас всем трудно. Но я не могу отвечать за тебя, если ты схватишь воспаление легких.
— Плевать я тогда на вашу школу хотел!
Он на нее и плюет. Вот только Надя сидит в классе.
И хочется сидеть близко от нее.