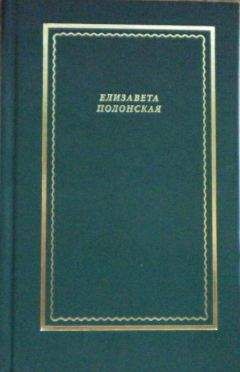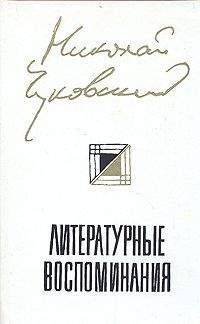Всеволод Иванов - Серапионовы братья. 1921: альманах
— Вор… — сказал Кузьма и голоса своего не услышал.
Схватился за решетку, ударил стволом об железо и закричал:
— Ей…
Ударил разом коленями в пол мужичонко, вскочил опять и с визгом к стене кинулся, вверх на окно смотрит, гнется к полу, голову закрывает для чего-то ладонями:
— Парень… С голоду я, с голоду. Ребята, семья — восемь душ, жрать нечего, парень. Ребята голы, как арбуз брюхо-то, вше уцепиться негде. Семенской волости я, парень… Прослышал… прослышал… бают — золото тут… серебро на ризах-то, тьма. Позарился первой раз, ей-богу… Кузя. Брось ружье-то, Кузя… Ну… А… Кузя…
Спустился Кузьма с кедра, опустил курок обратно, вскинул ружье и пошел в тайгу…
Опять смола дышит, травы лесные, кедры из земли в небо рвутся, корни их земля сдержать не может — ослабла, не вздохнет.
Говорит Кузьма:
— Может, и взаболь не провалился, да может, и самого-то города Вернова нету, а так для утешения своего люди придумали…
Молчат кедры — не отвечают, своим делом заняты. Что ж, нет ведь чудес на свете, и самое страшное — жить и верить в это.
ЛОГА
Уйдет она на пригон, в предбанник, скинет рубаху, смотрит на себя: плотно прижалось мясо к кости — алое, как калина, и пахнет хрупким осенним мхом.
Скажет она горестно:
— С чего оно?
А небо белое-белое, белее молока. Земля снизу его поджигает, дышит на него прелым духом.
Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые. Ходят по полям победителями, высовывая из бород немного насмешные улыбки. Они покойны!
Хотя б муж ее Петр — у него черная, точно унавоженная борода, — земля, сто лет не паханная. И говорит, точно корни корчует:
— Нонче, паря, урожай. На усе! Бог послал!
Иль дед Емолыч — хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земля. Молчит.
Бешмет у него киргизский, пестрый, на ногах ичиги, и не ходит — летает человек. Лошадь — иноходец, трашпанка — легка, будто из бумаги.
И все дань из города привозит.
Привезет, в сундук, жестью цветной обитый, складывая, улыбается лысиной, а лицо, как темя, недвижно.
Петр говорит:
— Пушшай бунтуют. У нас земля удойная, а город, ён все припрет сюды.
Пойдет Аксинья мимо мужа, в глаза ему посмотрит — как колодец степной, сух и темен глаз. А ночью, когда жмет ее, давит и зыбко дышит со слюной на ее тело, — закрывает она глаза. Тогда ей совсем страшно.
Шла бабка Фекла по пригону — яйца курица несет несуразно в этом году — искала. Шарила прелую землю, навоз сухой и едкий, сено. Шебуршала, как сеном, губами:
— Ребятишки, бают, в Расеи-то без ног родятся. Ксинь, а?
— Не знаю.
— Ничо народ ноне не знат! Ране хоть старова слушались, теперь вот в свой ум зажили. Ну, ничо и не знат! Слякотной народ.
— Тошно мне, баушка!
— А ты Миколе Мирликийскому да Пантилимону свечку вверх ногам поставь. Сглазили, усю Расею антихрист сглазил!
И опять зашарила руками, зашебуршала сеном.
— Силы у меня нету, в бор бы не то пошла. Иди хоть ты, Ксинь.
— Видмедя там я не видала, што ли?
— Гриб собирай! В городе-то заместо хлеба гриб жрут, провалиться им совсем! Собрала бы вот да на платье бархатно выменяла, а то на шелково, а?..
И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным сиплым хлебным духом. Все лето окна настежь — не выходит дух.
И все село такое — огромное. На версты — в лесу, в хлебах.
Из города в начале мора приходили тощие, с широкими пустыми мешками, просили.
— Бог подаст! — отвечало село.
Не стали приходить. Собакам скучно, лаять не на кого. Да и приходившие завидовали им:
— Собаке на день скармливаете больше, чем нам на неделю дают.
— А ты не бунтуй!
И лохмоногие псы рвали сапожонки уходившим.
IIЖелтым вечером — с юга дул песчаный ветер — из степи приехали киргизы.
Скрипели высококолесые тяжелые арбы. В них на тонкой протершейся кошме тесно лежали тонкие, как жерди, сухие люди.
Лупящаяся кожа пластами, как алебастр, прорывала острые кости. На рваных овчинах, закрывавших тела, густым слоем надуло песок.
— Нан хлепа, нету чок… — говорили они.
Голоса их были, как ветер в курганах, — свистящие и одинокие.
— Хлеба нету!..
Мужики широко, крепко втискивая в землю босые ноги, покрытые пыльным волосом, смотрели на лишаи и струпья. Щекотали шелушившуюся, как кора тополей, кожу под мышками. Отходя, говорили про киргиз:
— Не выживут…
Петр сказал киргизам:
— Проезжай!
— Нан нету!.. Хлепа нетю…
Ветер вырывал из прорех куп клочья шерсти. Из малахаев тоже ползла верблюжья шерсть. А верблюды тощие, с вяло повисшими горбами, были голы, и кожа морщинилась, как солонцы в засуху.
Аксинья стояла на крыльце, смотрела на киргиз, плакала. И от слез, должно быть, еще более засыхало тело, как ребенок больную грудь — сосало сердце.
Бабка Фекла, проходя с подойником, остановилась и, точно нутром почуявши плач, освободила ухо из-под туго завязанного платка.
— Свечку не ставила? — спросила она.
Хрипло заревел верблюд, через забор видно Аксинье, устало подымает его киргиз.
— Пошто плачешь-то? — уходя, спросила бабка.
— Жалко!
— Чего опять?
— Киргиз звон голодных привезли!
Бабка зашебуршала в подойник:
— Мало их немаканых шляться! Всех не накормишь. Робить не хочут, ну и голодают. Прогони лучше скотину на Иртыш. Напоить некому, глаза пучат, нашли дико…
Аксинья подняла скотину.
Петр встретил ее в воротах и молча посторонился.
Дед Емолыч шел за ним и, улыбаясь лысиной, велеречил:
— Я им на хлеб, баю, меняй верблюда-то! Не хочут, халипы. Мало даешь, грит, а? Пуда пшеницы ему, немаканому, мало…
— Гнать их — и больше никаких.
— И то гнать, а не то чуму припрут?.. Китай-то, бают, весь от чумы вылез, голай! Как, значит, появился у них большавик-то, так и пошло.
— Ты в город-то когда?..
…Киргизы сидели на траве подле арб.
Курчавый казак резал сделанным из литовки ножом толстые ломти хлеба. Один за другим, не спеша, кидал ломти на траву.
Киргизы жадно хватали с земли хлеб вместе с травой. Жевали всем телом — плечами, грудью, ногами.
Курчавый подбрасывал ломти, кричал:
— Лопай, ну!..
Лежавшие же в арбах молчали, и остро выдавались под грязными овчинами их груди.
Киргизы, вытирая текущую из глаз слизь, похожую на слюну, благодарили:
— Щикур, Санка, щикур.
Скотина на Иртыше пила теплую воду, обмакивая в струю пыльные морды. С морды по шерсти текла вода, и глаза у скота были тоже как огромные темные капли.
А курчавый Сенька Трубычев все резал хлеб.
— Лопай! Бог один, вера разна!
— Берна, берна!.. — бормотали киргизы.
Заметил он Аксинью.
Выцветший, как ковыль, волос подняло ветром с его широкоскулого лица; открылись глаза — голубые, большие — как мокрое блюдечко.
— Чего ты? — спросил он.
А у ней зарумянилась улыбка, сошла с лица на высокую, как старинное крыльцо, грудь. Во всем теле отдалось радостным холодком.
— Ничего, парень!..
Ушла, приминая траву, и трава завядала под ее ногой.
…А фиолетовой душной ночью, крадучись, нагребла из сусека мешок зерна. Пригибаясь к редкой травке, упираясь пальцами в теплый песок, еле-еле донесла его до каравана.
Здесь обнял голову запах кизяка и айрана. Залаяли шепотом голодные киргизские собаки — не выдержала. Опустила мешок, убежала.
Киргизы подняли мешок, спрятали.
…Ноги разбрасывали траву против ветра. А он упорно ее по земле своей охотой расправлял, как отец сынишке лохмы.
Из логов — глубоких темных оврагов — несло тупым, но щемящим сердце запахом боярышника, темно-зеленой земной влагой и утками.
Пахло утками, сбиравшимися на перелет к югу…
И не знала, почему болело сердце. Не всякий ловит его, этот запах отлетавших уток, а если ловит, не понимая к чему…
IIIЛога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные. Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед.
Гриб — огромен и ядрен: атаман Черняев в былые годы, сказывали, царям в подарок посылал. Но у царя в нутре для гриба кишка переварная не годилась, и поедали гриб митрополиты. Атаману Черняеву же лента бриллиантовая подарена за грибы была.
Через лога дорога извилистая по кустам и березняку на юг…
Дорогу трава заедает и заела бы, кабы не киргизы и не дед Емолыч — они по ней в город ездят.
И жмут дорогу лога — полынью украсили, чертополохом. Синий колючий чертополох за колеса цепляется.
Стала уходить Аксинья в лога, будто скотину разыскивать.
Идет она березняком, боярышником — тупой запах его за платье цепляется, в волос лезет. А перед глазами дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные.