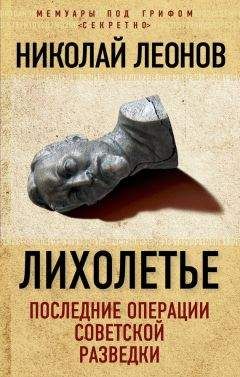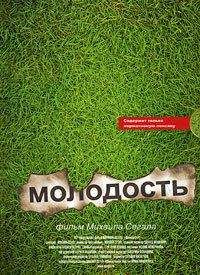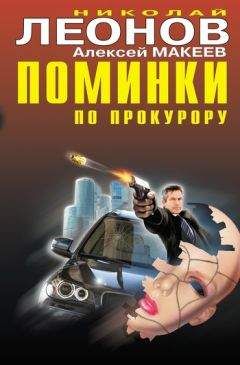Савелий Леонов - Молодость
С расширением Российского государства, когда границы его отодвинулись до Кавказа и Черного моря, город на Сосне очутился в глубоком тылу. Он уже потерял своё прежнее военное значение и перестал быть администра тивным центром Но торговля не замерла. Зимой и летом скрипели на многоверстных большаках груженые возы, поспешая к воскресным городским базарам и ярмаркам. А едва провели железную дорогу, как присосенский край показал себя. Он выбрасывал на рынок хлеб, яйца, живность, кожи, щетину, шерсть, пеньку и конопляное масло. Выбрасывал в огромных количествах.
Его товары завоевали всеобщее признание несравненной добротностью и дешевизной. Их знали на заграничных биржах. Золотыми ручьями текло богатство в несгораемые сейфы адамовых и объемистые кубышки бритяков.
«Да, поднажились старики, — размышлял Ефим, кривясь и ускоряя шаг. — Однако по нынешним-то временам не пришлось бы за них деткам ответ держать!»
Он вспомнил отца, торчавшего со своим жеребцом возле исполкома, вспомнил острое чувство страха, испытанное при выходе начальства, и стало ясно, что дорога в будущее тяжела, извилиста, ненадежна. Лихая слава родителя последует за ним всюду, разрушая его дерзновенные планы.
«Уж не сменить ли фамилию, вроде Октябрева?»— Ефим даже остановился, осененный счастливой мыслью.
Но ведь Октябрев достиг высокого положения не фамилией, а революционными делами. Оставшись годовалым ребенком в нищете, он шел совершенно другим путем к новой жизни.
— Эх, батя, скрутил ты меня мертвым узлом — не дыхнуть!..
Ефим спустился каменистой тропкой к Низовке, полоскавшей в зыбкой стремнине отраженную синеву небес, и пересек речку по деревянному настилу моста. Луговой берег Георгиевской слободы густо облепили чахлые лачуги с пыльными геранями в окнах. Здесь жили рабочие махорочной фабрики Домогацкого, которая стояла неподалеку, между белой колокольней и двухэтажным зданием тюрьмы. На окраине слободы, за воинскими казармами, зеленело Ярмарочное поле. Ефим вошел в дом, где квартировал, и только здесь почувствовал, до чего глубоко взволнован приездом Степана.
Нельзя сказать, чтобы все это стряслось внезапно: Ефим вполне считался с возможностью возвращения Настиного жениха. Но раньше такие мысли вызывали у него самодовольную улыбку. И лишь сейчас, при виде красивой и строгой жены, занятой шитьем, сердце Ефима дрогнуло… Он вспомнил о давнишней любви Насти к Степану.
Жизнь тревожила и оскорбительным прошлым и неясным, полным душевного смятения будущим.
Ефим посмотрел в зеркало и отступил, испугавшись бледного, с трясущимся подбородком, рыжеусого лица. Но тотчас взял себя в руки.
— Эдакая жарища, а? Еду по службе, Настя…
Настя повернулась не сразу. Ефим следил за ее фигурой, рослой и статной, которую не портила беременность. Отложив недошитую распашонку, Настя застегнула пуговицу на кофте, становившейся день ото дня теснее. Поправила на голове тяжелый узел золотисто-светлых и мягких, как чесаный шелк, волос. Большие серые глаза перехватили беспокойный взгляд мужа. Волнение Ефима, угаданное женским чутьем, передалось и ей.
— В Жердевку? — отозвалась она ровным грудным голосом.
— Да… Тебе ничего не надо?
Настя промолчала, чуть улыбнувшись, — крепко сжатым, по-девичьи свежим ртом. Что-то надломилось в ее тонких бровях.
«Знает о Степане или нет? — мучился Ефим догадками. — Слух идет по всяким путям, ему ножку не подставишь!»
Он подошел и обнял жену, близко заглянул в лицо.
«Не знает», — решил Ефим.
Вот за этим минутным успокоением спешил он сюда. Теперь надо ехать. Отец уже, наверное, подкатывает к дому.
За окном на лугу толпились продотрядники. Винтовки стояли в козлах. Бойцы отдыхали после строевых занятий. Молодой красноармеец, свесив с пулеметной двуколки ноги в зеленых обмотках, пел, подыгрывая себе на звонкоголосой гармошке-ливенке. Он притворно вздыхал и подмигивал проходившим по берегу Низовки слободским девушкам:
— Не тоскуй, моя милаша,
Брось печалиться, тужить!
Я пойду за счастье наше
В Красной гвардии служить!
— Что ты, Костик, делаешь? — шутливо упрекал гармониста худощавый военный с веселыми цыганскими глазами, поправляя форсовито заломленную на затылок фуражку. — И так уж от твоих песен девчата ночи не спят!
— Я без песни, что медный котелок без воды на огне, — Костик скроил на своем тонкобровом юношеском лице забавную гримасу. — Того и гляди, распаяюсь…
— Ну, жми веселей, чтобы душа радовалась! Да не забудь потешить роту — дай ногам работу!..
Ефим смотрел в окно, прислушиваясь к словам худощавого. Это был иваново-вознесенский рабочий Терехов, раненный под Царицыном в летних боях с красновскими казаками и после лазарета назначенный помощником начальника продотряда. Потому ли что в отряде оказалось немало его земляков-текстильщиков или уж человек так умел завоевать симпатию окружающих, но Терехов сразу заслонил собою Ефима. К нему обращались товарищи за помощью и советом, и он постоянно находился среди бойцов, деля с ними трудовые будни, досуг и минуты развлечения.
Неутомимый Терехов за свои двадцать четыре года успел и поработать и повоевать. Он отведал окопной жизни в Мазурских озерах, не раз сходился с немцем в штыки, а в октябре 1917 года вместе с матросами Балтфлота и питерским пролетариатом брал штурмом Зимний дворец. Бойцы увлекались его смешными и серьезными рассказами бывалого солдата. И Ефиму оставалось втайне завидовать этому весельчаку, которого все любили и уважали.
Костик рванул змеисто-оранжевые меха:
Говорят, что есть ракета
И летает на Луну.
Ах, на эту бы ракету
Посадить мою жену!
И как-то вдруг, без всякого перехода, заиграл плясовую, с переливами. Возле двуколки раздвинулся круг. Терехов щелкнул пальцами, притопнул каблуком и понесся по кругу легкой, рассыпчатой рысцой. Ефиму он напомнил Степана… У этих плясунов есть какое-то сходство.
— У-ух! Поддай жару! — крикнул гармонист и, сложив язык трубочкой, пронзительно засвистел.
Бойцы ударяли в ладоши, усиливая резвый, нарастающий ритм музыки. Толкались, подзадоривали:
— Замела метелица!
— Лихо, честное слово… Ветер!
— Молодежь! С вечера не укладешь, утром не поднимешь!
Терехов дал забористого трепака и, усложняя колена, то взвивался мячом, то рубил носками чечетку, то летел по траве в быстрой присядке. Крепкие ладони его выбивали мелкую дробь на груди, на коленях, на голенищах.
«Ну и черт! Степке не уступит», — подумал Ефим и оглянулся. Рядом стояла Настя. Она смотрела в окно, строгая и молчаливая.
— Надо перебираться на другую улицу, — сказал Ефим раздраженно. — Хуже нет жизни по соседству с казармой. Днем и ночью все ходуном ходит.
— Казарма жить не мешает, — возразила Настя.
— Это я для тебя… — Он не успел докончить: жена посмотрела на него хмуро и настороженно,
Ефим прошел по комнате, задыхаясь, толкая мебель, как слепой. Готовый в дорогу, он медлил уходить. Следил за женой, опасливый и злобный, точно вор, плохо спрятавший добычу.
— Жара погибельная, — прохрипел он сквозь зубы и взглянул на жену, переодевавшуюся за шкафом. — Ты куда собираешься, Настя?
— В Жердевку.
— Что-о? — Ефим вытянулся и побледнел. — Я… с отцом, на дрожках!
Настя замерла, ожидая чего-то более значительного… И не дождавшись, упрямо и гордо направилась к двери.
Ефиму стало неловко за грубую, неумелую увертку. Он кинул через плечо::
— Велю запрягать исполкомовский шарабан… а?
В это время Бритяк подъехал к самым окнам Ефимовой квартиры. Не слезая с дрожек, отстранил кнутовищем занавеску:
— Настя, дай хоть напиться… А то есть родня, чертям на посмешище, которая заместо угощения норовит в шею!
И взяв из рук невестки стакан и уже не зная, чем отомстить сыну, яростно выплеснул воду на круп лошади.
Ефим стоял к окнам спиной, поправляя висевший на боку маузер в деревянной кобуре.
Бритяк увидал коротко остриженный затылок, туго натянувшиеся возле ушей синие жилки и вдруг почувствовал необъяснимую робость. Он дернул вожжи и поскорее отъехал прочь.
— Ну и деток бог послал за грехи… Беда!
Глава пятая
День возвращения домой, начавшийся для Степана такой светлой радостью и повеявший на него долгожданным счастьем любви, принес мучительную боль…
Никаких подробностей Настиной измены Степан не знал и не хотел знать. Он не нуждался в сочувствии, избегал людей. Скорбные взгляды родителей угнетали его.
«Как жалел я Ваню Быстрова, пропавшего на границе… А сейчас, может, завидую ему», — думал Степан, не находя себе места.