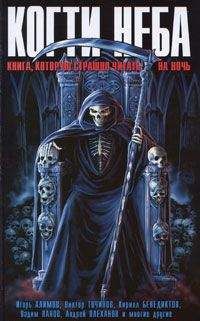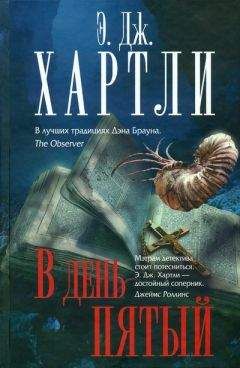Илья Эренбург - День второй
В ту ночь он не спал. Он много думал. Мысли его были путаны. Он вдруг догадался, почему в роще он не мог ничего сказать большеглазой Марусе. Кроме знания, существовало другое: звуки, беспричинная боль и огромная непередаваемая радость.
Когда начало светать, он вышел на улицу. До работы оставался час. В воздухе было нечто смутное и беспокойное. Все мчало, капало, гудело. Была оттепель. Значит, скоро год, как он здесь… Весна, с ее двоением, с дыханием, полным слез, цветочного сока и карболки, с ее зудом, гулом и глубокой немотой, теперь не показалась Кольке мучительной. Она шла на него, как счастье. Когда в голубоватом тумане показались кауперы, Колька подумал: домна будет пущена к сроку! Так строят завод. Так строят и человека.
4
Революция одних людей родила, других убила. Колька Ржанов рос и радовался: он только начинал жить. Курносая Шурка из Криводановки ходила, как именинница: она сразу получила все — и азбуку, и городские туфельки, и кино, и собрания. На собраниях, вместе с другими, она решала, как быть и что делать. Васька Смолин поступил в институт черной металлургии. Их было много — Колек, Васек и Шурок. Неуклюже и весело они вступали в жизнь.
В Свердловске Колька часто встречал нищего, который приговаривал: «Гражданин, подайте отверженному!» Это был Иван Гаврилович Благонравов, бывший профессор Духовной академии. Он был стар, немыт и нечесан. Когда ему удавалось набрать несколько рублей, он жадно тянул из горлышка горькую. Его тощие ноги дрожали. Он спал в подвале развалившегося дома. Он был болен и мочился под себя. Никто за ним не смотрел. Когда-то он любил открытки с видами Крыма и «Осеннюю песню» Чайковского. Он забыл об этом. Его воспоминания были несвязны и назойливы: он видел то пол детской, натертый воском, то стерлядку на длинном блюде, то пухлые руки покойного ректора. Он еще дышал и двигался, но он был мертв.
Сын предводителя дворянства Станевич молодость провел в Оксфорде, он изучал английское право и высшую школу верховой езды. Теперь он промышлял извозом. Он кряхтел, сквернословил и старался ни о чем не думать.
Любимица Екатеринбурга Ася Муратова, которая лучше всех пела «Поцелуем дай забвенье», в «Деловом клубе» мыла сальные котлы. Она уносила с собой пшенную кашу в платочке.
Так умирали те, которые не могли больше жить.
На стройке работали комсомольцы. Они знали, что они делают: они строили гигант. Рядом с ними работали раскулаченные. Их привезли издалека: это были рязанские и тульские мужики. Их привезли с семьями, и они не знали, зачем их привезли. Они ехали десять суток. Потом поезд остановился. Над рекой был холм. Им сказали, что они будут жить здесь. Кричали грудные дети, и женщины совали им синеватые тощие груди.
Они были похожи на погорельцев. Называли их «спецпереселенцами». Они начали рыть землю: они строили земляные бараки. В бараках было тесно и темно. Утром люди шли на работу. Вечером они возвращались. Кричали дети, и все так же измученные бабы приговаривали: «Нишкни!»
На осиновских рудниках работали заключенные: они добывали уголь. Руда с углем давала чугун. Среди заключенных был священник Николай Извеков, тот, что перед смертью причастил мать Коли Ржанова. Когда Извекова вычистили из санитарного треста, он начал проповедовать «близость сроков». Он переписывал послания апостола Павла и продавал списки по пяти целковых. Он также служил тайные панихиды по усопшему государю. Его послали в концлагерь сроком на три года. Он грузил в шахте уголь. Рядом с ним работал Шурка Турок. Шурка прежде торговал кокаином. Извеков говорил Шурке: «Нечестивцы будут брошены в озеро, кипящее огнем и серой». Он говорил это, но он больше ни во что не верил. Он только припоминал тексты писания. Шурка в ответ гадко ругался. Зловеще посвечивал уголь.
В Топольниках в однодневном доме отдыха молодые казачки играли с комсомольцами. Они весело повизгивали. Петька Гронцев стоял над микроскопом: он глядел на каплю воды. В воде неведомые существа трепетали и росли. Капля воды была огромным миром, и Петька Гронцов задыхался от непомерной радости узнавания. Ирина Травина, работница механического цеха, читала товарищам стихи Маяковского. Ирина недавно вступила в «бригаду Маяковского» — работники этой бригады читали на вечерах стихи любимого поэта. Волнуясь, Ирина декламировала: «Наш бог — бег, сердце наш барабан». Она не понимала смысла этих слов, но они ее веселили, как весенний ветер. Колька Ржанов стоял на берегу Томи. Он глядел на ледоход. Огромные льдины, скрипя и торопясь, надвигались одна на другую. Казалось, не река это движется, но мир, и Колька, раскрыв широко глаза, не слыша ни шуток товарищей, ни суматохи — из прибрежных домиков выносили добро, — глядел на реку — река шла.
Одних людей революция сделала несчастными, других счастливыми: на то она была революцией.
Судьбу людей разделили и города. Когда-то города рождались, отстраивались, копили добро и не спеша старились. Революция прошла над городами. Тогда одни из них выросли, как в сказке. Другие смутились, примолкли и стали рассыпаться, как будто они были сделаны из снега или из песка.
Был уездный городок Ново-Николаевск. Люди в нем жили тихо и нехотя. Пристав Глашков пил зубровку, а директор прогимназии Клосовский признавал только померанцевую — собственной настойки. На главной улице чесались свиньи. Дома были низенькие и все деревянные. Сапожники в праздники буянили. Чиновники играли в преферанс. Ученики прогимназии читали Леонида Андреева и рисовали на заборах похабные картинки. Это был город, как тысячи других. Потом настала революция. Город брали белые и красные. Потом революция победила. Город переменил имя: он стал Новосибирском. Он переменил не только имя: он начал другую жизнь.
Отовсюду пришли в Новосибирск новые люди. Жилья для них не было. Они строили лачуги и копали землянки. Их поселки называли «Нахаловками». Новые люди и впрямь были нахальны: они хотели во что бы то ни стало жить. Новосибирск стал областным центром. Из Москвы приехал товарищ Зак. На нем были модный френч и сапоги из шевровой кожи. Он носил немецкий портфель с двойными ремешками. Появились в городе форды. Сотрудницы ОНО и «Лесотреста» ходили теперь с ярко-малиновыми губами. В театре ставили пьесы Шекспира и Киршона. Приехал из Харькова Кронберг и начал по знакомству поставлять заграничный коверкот. В клубе имени Ленина состоялось совещание красных эсперантистов. Открылся «ресторан повышенного типа» с водкой и с музыкой. Из Иркутска прибыли братья Фомичевы — знаменитые по всей Сибири взломщики.
Старые дома сносили. Улиц больше не было, и весь город превратился в стройку. Он был припудрен известкой. Он пах олифой, нефтью и смолой. Автомобили прыгали по ухабам, вязли в грязи и, тяжело дыша, вырывались на окраины. На окраинах было ветрено и пыльно. На окраинах люди рыли землю, и редактор «Советской Сибири» острил: «В Америке небоскребы, а у нас землескребы».
Город мечтал о новой Америке. Начали строить большие дома: это был Новый Свет — каким его показывают на экране. Жители говорили о своем городе: «Это сибирский Чикаго» и, желая даже в шутке соблюсти стиль, они поспешно добавляли: «Сибчикаго». Дома были сделаны по последнему слову моды. Они казались выставочными павильонами, но в них жили люди. Их строили второпях, и через год они покрывались старческими морщинами.
Гордостью города была новая гостиница. Ее звали «Динамо». В номерах расставили громкоговорители и самый лучший из номеров назвали «наркомовским». В гостиницу как-то приехал настоящий нарком из Москвы. Он смущенно оглядел комнату: в ней не было ни зеркала, ни полотенца. Жизнь в Сибчикаго начиналась с большого: с громкоговорителей. В вестибюле гостиницы сидели чистильщики сапог. Ветхие ботинки, привезенные из Старого Света, начинали блестеть, как новорожденные. Но у дверей гостиницы была непролазная грязь. Калоши оставались в грязи, и люди их привязывали бечевками. При гостинице имелся большой зал. Там собирались съезды и совещания. Делегаты из глухих сел Алтая слушали доклады об апатитах и о лицемерии Лиги наций. Имелся при гостинице и ресторан. На двери висел грязный листочек, карандашом было выведено: «Сиводни вужен». Заведующий не был тверд в правописании, зато он умел достать на ужин рыбу — нельму или муксуна, и он был полон энтузиазма.
В город приезжали тунгусы, остяки, ойраты. Они требовали дроби, керосина, учебников. Дул холодный ветер. Товарищ Ишамов бодро говорил: «В полосе вечной мерзлоты скоро зацветут яблони!» Раскосые люди просиживали часами на заседаньях. Они молчали. Потом они начинали говорить. Они говорили о величии коммунизма и о том, что в их поселки надо скорее послать врачей.
Возле города строили большой завод, чтобы изготовлять комбайны. Вокруг завода колосилась пшеница. Город распределял, наставлял и правил. Не переводя дыханья, днем и ночью город повторял: «Слушали — постановили». Даже сны его были протоколами. В городе было не менее тысячи машинисток. В городе были обком и облисполком. Город все рос и рос. По переписи в нем значилось двести пятьдесят тысяч жителей.