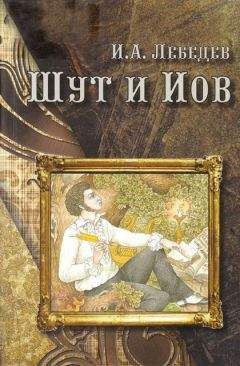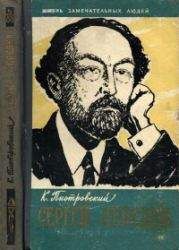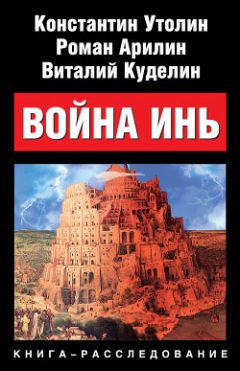Константин Лебедев - Дни испытаний
— Да, — ответил Ветров, — но я скоро демобилизуюсь.
— Вы хотите быть научным работником?
— Это моя мечта!
— Прекрасно. В моей клинике есть место ассистента. Я беру вас.
Он сказал это безапелляционным тоном, несколько обескуражившим Ветрова. Когда он стоял на трибуне и чувствовал на себе его сухой испытующий взгляд, ему казалось, что человек в пенсне им недоволен и даже на что–то сердится. А теперь получалось совершенно наоборот.
— Я очень рад, — ответил он, — но мне кажется…
— Вы не хотите? — поднял брови профессор.
— Напротив, я очень хочу, — торопливо пояснил Ветров, — но вы же совсем меня не знаете?
— Я слышал ваш доклад, — возразил профессор.
— Он понравился вам?
— О докладе мы поговорим после. Я не люблю делать комплименты. Но в вас есть страсть, а это качество очень важно… Помните, что сказал Иван Петрович Павлов? Он сказал, что если бы у научного работника было две жизни, то и их ему бы не хватило!.. Подумайте о моем предложении, и завтра мы найдем время побеседовать подробнее. До свидания…
Надев плащ, Ветров пошел к выходу.
Погода испортилась, и улица встретила его сыростью. Шел мелкий осенний дождь. Асфальт сделался мокрым, и в нем отражались огни белых электрических фонарей. Сырость пропитывала воздух, и зонтики, под которыми скрывались прохожие, от нее не спасали. Мельчайшие капельки воды дождевою пылью забирались всюду — и под одежду, и под фуражку.
Ветров поднял воротник плаща и шагнул со ступенек на тротуар. В это время кто–то дотронулся до его плеча, и чей–то знакомый голос произнес:
— А я уж думал, что пропустил вас, дорогуша!
Из–под кепки выглянула тоненькая проволочная оправа стариковских очков.
— Иван Иванович!.. Вы?..
— Я, дорогуша, конечно, я, — кому же больше?..
В мутном свете фонаря Ветров различил совсем седую знакомую бородку. Она была влажной. Капельки воды были и на его коже, и на носу, а кепка с нависшим вперед верхом казалась отяжелевшей.
— Почему вы здесь? — спросил Ветров, дотрагиваясь до его пальто. — Батюшки, да вы весь промокли!..
— Нет, дорогуша, нет. Это вам… кажется, — отвечал он, и Ветров заметил, что его голова трясется. — Это, конечно, кажется. Я же… прятался. Я стоял в сторонке… вот здесь. Здесь не мочит. Я укрывался.
— Да зачем же вы стояли?
— А вас ждал… Ждал, когда выйдете… А вы и не шли. Я уже и подумал, что… пропустил вас… Все прошли, а вас и нет. Хотел было домой ехать… С глазами–то у меня хуже теперь. Плохо они видеть стали… А вы и не шли… — Он говорил, временами останавливаясь и повторяясь.
Ветров подумал, что это либо от волнения, либо от холода.
— Зачем же вы ждали меня? — спросил он.
— А как же?.. А как же мне было не ждать?.. Я сейчас недалеко, под Москвой работаю. Узнал, что будет съезд, и решил, что уж вы–то, дорогуша, обязательно там будете. И приехал… Приехал, чтобы свидеться. Не вытерпел. Ну, дайте я на вас погляжу… — Он бережно повернул его к свету, вгляделся и удовлетворенно закачал головой: — Хорош, хорош, такой, как и прежде… Да вас мочит, — спохватился он. — Еще простудитесь. Идите–ка на мое место…
— Ах, Иван Иванович, дорогой вы мой! — не выдержал Ветров, обнимая от всей души старика и не замечая холодной мокрой материи, которой коснулись его руки. Он представил, как, сутулясь и прячась в воротник пальто, стоял Иван Иванович под дождем и с тревогой выискивал его фигуру среди выходящих людей. Он представил, как вглядывался он в них своими ослабевшими глазами и сколько горькой обиды испытал, когда все уже прошли, а тот, которого он ждал, не появлялся. И чувство благодарности за эту старческую любовь заполнило Ветрова. — Да ведь вас самих мочит, — с теплой укоризной сказал он и, настойчиво взяв Воронова под руку, повел по улице: — Пойдемте ко мне в номер. Там и побеседуем…
Иван Иванович старался идти в ногу и бодрился. Не обращая внимания на погоду, он все говорил и говорил, радуясь встрече и тому, что угадал, где нужно было искать Ветрова. Он даже старался забежать чуть–чуть вперед, чтобы, оборачиваясь на ходу, лучше видеть спутника.
По дороге Ветров рассказывал ему о своем докладе. Услышав о его успехе, старик, сверх ожидания, нисколько не удивился. Он только удовлетворенно кивал головой и иногда вставлял свои замечания в бессознательной уверенности, что это было в порядке вещей и что иначе быть никак не могло, раз за это взялся Ветров. У перекрестка он неожиданно остановился.
— Знаете, дорогуша, — нерешительно попросил он: — поедемте лучше ко мне. Сядем в электричку и через полчаса доедем. Чайку согреем, поговорим. У меня и переночуете. А?.. Уважьте старика!..
В его тоне Ветров уловил столько просьбы, что обидеть отказом не решился.
— Что ж, поедем, — согласился он. — Посмотрю, как вы живете. Тем более, что скоро опять друг к другу в гости ходить будем… — Он рассказал Ивану Ивановичу о предложении, которое сделал ему профессор.
Иван Иванович обрадовался этой новости. Мысль, что они снова будут встречаться, не давала ему покоя до самого вокзала. Он развивал ее все время, пока они ехали в метро и затем поднимались наверх.
У выхода он попросил Ветрова подождать, отведя его в защищенное от дождя место, а сам, быстро семеня, побежал по мокрому асфальту в сторону пригородных билетных касс.
Ветров взглянул на часы. С трудом он различил стрелки — они показывали четверть двенадцатого.
«Значит, заседание кончилось раньше одиннадцати», — почему–то подумал он и вдруг вспомнил, что как раз в это время Ростовцев еще вчера просил его послушать радиопередачу.
С противоположной стороны площади из рупора донеслась к месту, где он стоял, музыка. Чтобы лучше ее слышать, Ветров вышел из–под укрытия. Мелкие брызги сразу обдали его фигуру с головы до ног, и по спине побежали мурашки. Не обращая на это внимания, Ветров старался вслушиваться в то нарастающие, то слабеющие звуки. Музыку заглушал временами грохот пробегавших неподалеку трамваев, и ей мешали шелестящие шумы мокрой резины проходивших машин. Черные, с отраженными бликами, лакированные тела их мелькали то и дело перед глазами, взбивая колесами мелкие лужицы. Со здания вокзала на площадь прожектора бросали пучки света. Они выхватывали из темноты мутные полосы насыщенного водяной пылью воздуха. Расстилавшееся пространство площади казалось громадным.
Ветров так и не усвоил как следует музыку, отрывки которой ему удалось слышать. Он понял только, что было в ней временами что–то очень сильное и могучее, такое, которое голосом труб царило над всей площадью и покрывало другую, слабую тему, почему–то очень ему знакомую. Он напряг память, чтобы вспомнить, где он слышал эту вторую тему, и почему она показалась ему известной. И удивленно подумал вдруг, что она чрезвычайно напоминала ариозо, звуки которого донеслись к нему вчера, когда он покинул дом Ростовцевых.
Ветров сравнил их еще раз. Действительно, он не ошибся! Эта вторая тема очень походила на ариозо своей нежностью, своим лиризмом. Но звучала она слабо, словно отголосок, словно красивое воспоминание. В ней порой проскальзывала боль, но тотчас же ее сменяла мощь и могучая простота звуков, несшихся торжественно и побеждающе. В них, этих новых звуках, была сила, уверенность и призыв к новому, прогрессирующему и побеждающему.
И он понял, что это была музыка Ростовцева. Может быть, первая, может быть, ищущая, но все–таки его собственная. И он понял еще и то, почему Тамара сказала, что будет занята именно в это время сегодняшнего вечера. Он представил ее, внимательно слушающую музыку Бориса, и опять подумал, что она счастлива. И не только она — счастливы они вместе. И их счастье будет еще большим, если после музыки вспыхнут аплодисменты.
Аплодисменты! Но еще недавно, всего каких–нибудь полчаса тому назад, Ветров слышал другие аплодисменты. Они, эти другие аплодисменты, не были очень бурными, они не перешли в овации, и слышал он их впервые. Он ждал их очень долго — целых три с половиной года, и они не будут повторяться часто. Собственно, это неверно, что он ждал их. Он никогда о них не думал, они пришли сами. Но разве оттого, что они редки, и оттого, что не бурны, разве от этого они хуже, чем те, которые выпадут на долю Ростовцева в будущем?
Нет, они не хуже их! Они, может быть, даже лучше, потому что были они для Ветрова неожиданностью. Те, кто ему аплодировали, были образованнее его, были известнее, но, тем не менее, они аплодировали ему, как равному. Ни за что на свете он не променял бы свой труд на что бы то ни было! Он много работал, он будет еще больше работать, не мечтая о славе, потому что если он сделает, что задумал, то слава придет сама!
И слава — это не главное. Любовь женщины — это тоже не главное. А главное, это — любовь к своему труду и любовь к народу, для которого ты трудишься!