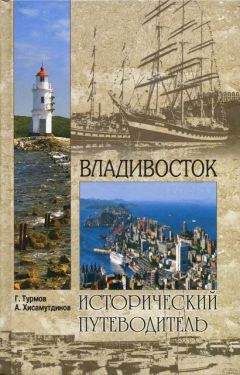Виктор Конецкий - Том 5. Вчерашние заботы
Порт был забит товаром, частые перерывы в подаче электроэнергии и низкая организация обработки судов вынуждали местные власти искать козлов отпущения среди судовой администрации. Подписывать документ я отказался в достаточно резкой (грубой) форме».
В помещении находились: милиционер, стивидор Хрунжий, дежурный диспетчер и неизвестное мне лицо. Вот этот консилиум из четырех человек и потребовал, чтобы я подписал бумагу о взятии на себя ответственности за простой судов на рейде, так как не разрешаю грузить технику на крышки твиндеков до раскрепления тяжеловесов.
Пока мы спорили на эту тему, пришла и тихо села в уголке Люба. И тогда Хрунжий сказал, что спорить тут вообще нечего, потому что грузовой помощник пьян. Он, Хрунжий, и вот пломбировщица видели своими глазами, как он пил на судне спирт. И что надо составить документ о факте его пьянства, потому что и присутствующие это могут подтвердить.
Все у них было уже готово — и проект документа тоже.
— Я с пломбировщицей с полночи до двух часов лазал в трюме, — сказал я. — И это единственное, что она вам может подтвердить.
— А зачем вы сами там лазали?
— А просто боялся за нее, за девушку. Она могла пораниться о крепления автомобилей. Люба, а почему ты молчишь?
«Если она сейчас не скажет правду, немые возопиют и слепые Янко прозреют», — подумал я.
— Ни. Со мной никто ни лазав. Говорит, сам не знае шо! Пломбы сама ставыла.
Хрунжий — черт с ним! Все остальные — черт с ними. И даже я сам — черт со мной. Но Люба? И как торжествует! Прямо хитрая разведчица, вернувшаяся из-за линии фронта. Или все-таки правильней будет сказать, как подсадная утка в банде уголовников.
И я сказал самую идиотскую и бессильную из расхожих фраз человечества у все времена и у всих народов:
— Как тебе не стыдно?
— Шо бачылы очи, то и казала, — засмеялась Люба.
Я вспомнил, как она стояла у черной дыры люка и казалась мне более одинокой, нежели собака, забытая возле гастронома. Следовало по примеру Печорина ухватить ундину за косу одной рукой, а другой за глотку. Но, черт побери, у моей ундины и косы не было.
— Плохо кончишь, Люба, — сказал я. — Кто так жизнь начинает, тот обязательно плохо кончит, одумайся.
— Много видели, да мало знаете, а что знаете — так держите под замочком, — сказала она на нормальном русском языке, как в школе на уроке литературы.
«Ну, или орел, или осел и решка!» — решил я и сказал:
— Ничего не остается делать, как провести экспертизу. Я требую доставки меня в милицию, лучше в медвытрезвитель. Если вы меня не доставите, я сам туда доберусь. И так ли, иначе ли вы будете отвечать за клевету.
Просьбу уважили без всяких добавочных требований. Через минуту я влезал в «раковую шейку», переоборудованную из годного на все руки «газика». Устраиваясь на жесткой скамье, я пробормотал себе под нос: «Ну, братец, назвался груздем — полезай в кузов…»
Кузов «раковой шейки» содрогался на ухабах и снеговых заносах ночных керченских улиц хуже торпедного катера на шестибалльной волне в Баренцевом море. Когда так трясет, или качает, или швыряет на волнах, я предпочитаю стоять, но в кузове милицейского «газика» не встанешь. Вероятно, это сделано для того, чтобы ты привыкал к глаголу «сидеть».
В приемном холле вытрезвителя ни одного образа ни в одном углу не было — как известно из «Тамани», дурной знак.
— Чего ты его сюда, ко мне привез? — бегло скользнув по мне профвзглядом, спросил дежурный лейтенант у того милиционера, который сопровождал меня из диспетчерской.
— Сам просил, — сказал милиционер. — Не хочет признавать, что выпивши. А Петр Степаныч и пломбировщица видели, как спирт пил. И все диспетчера утверждают, что пьяный. Вот документ от них за четырьмя подписями, — и он передал документ дежурному.
Лейтенант внимательно просмотрел документ. Милиционер, который привез меня, вышел из комнаты.
— Пили? — спросил лейтенант.
— Три часа назад бутылку портвейна на троих, — сказал я. — А обвиняют меня в больших грехах. Вы сами видите, что я не пьян. Это мне и надо зафиксировать.
Пожилая фельдшерица (в белом халате поверх шубы) сидела и слушала или не слушала.
— Проверьте! — строго сказал лейтенант.
— Идите сюда! — сказала фельдшерица.
На улице фыркнул «газик» и уехал.
— Дыхните, — сказала фельдшерица и подставила мне сложенные лодочкой ладони.
Я дыхнул. Она понюхала.
— Ну? — спросил лейтенант.
— Выпивши. Так он и сам сказал.
— Идите отсюда! — вдруг сказал лейтенант.
— Нет. Так не пойду. Мне нужно, чтобы вы написали, что я не пьян. Меня обвиняют, но…
— Степанов, я его отпускаю, а он не хочет. Видел таких из тверезых? — спросил лейтенант рядового сотрудника.
Тот пожал плечами.
— И еще я убедительно попрошу вас, товарищ лейтенант, — сказал я, — доставить меня в порт на машине. В Керчи я первый раз, ночь, города не знаю, судно под погрузкой, а я на вахте.
Между прочим, я только в тот момент вспомнил, что плюс ко всему я еще и на вахте. Злость отбила память на мелочи.
— Речевое возбуждение у него, — сказал лейтенант. — Заметил, Степанов? Интересно ему у нас, да, Степанов? Еще поговорите? Или все сказали?
— Наш брат — нынешний человек — суетлив и действительно суесловен, — сказал я, ведя себя так, как нынче вел себя наш доктор с солдатом-пограничником, то есть высокомерно и глупо. Ведь от меня действительно пахло, и этого факта было вполне достаточно, чтобы отправить меня в кутузку и сделать козлом отпущения за любые преступления мира. — И потому нынешний человек, — продолжал я, уверенный в своей нравственной чистоте, — не получает настоящего удовлетворения от общения с другим человеком, даже если этот другой очень умный и образованный человек, ежели тот не является лицом, обладающим властью. С человеком же, который власть имеет, разговаривают уже с неподдельным интересом, хотя он и глуп, как пуп.
— Степанов, он меня дураком считает, а? — сказал лейтенант рядовому милиционеру.
— Вы меня неправильно поняли, — сказал я. — Я только заметил, что с вами интересно. Но мое судно под погрузкой, а я грузовой помощник капитана. Мы через денек снимаемся на Ливан. Повезем арабам технику и стальной прокат. Без меня там таких дров наломают… Кроме того, я член Союза писателей и…
— Степанов, если гражданин себя Шолоховым назовет, посади его в душ, — сказал лейтенант и зевнул. — А сейчас помоги пьяному раздеться и веди в камеру. Спиртом от него так разит, что с души воротит. Небось чистым матом закусывал?
— Наши алкоголики лучшие в мире! — сказала фельдшерица, кого-то цитируя или повторяя известное присутствующим высказывание.
Лейтенант засмеялся. И я, дурак, тоже. Я все еще тупо не понимал, что Хрунжий капкан на мне захлопнул.
— Раздевайтесь, — сказал Степанов.
— Для вас эти шутки плохо кончатся, — сказал я лейтенанту.
Он только рукой махнул — слышал он тут угрозы и похлестче.
— Раздевайтесь. До исподнего, — сказал Степанов.
Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил керченское портовое спокойствие и, как камень, сам пошел ко дну. Это было илистое, холодное, омерзительное дно. Я погружался медленно, захлебываясь в зыбях человеческой лжи и несправедливости. Зыби уже смыкались над головой.
На короткие мгновения пытался увидеть все происходящее со стороны, представить, как спустя годы буду рассказывать приятелям новеллу с названием, с названием…
Под натужными воспоминаниями и попытками глядеть на происходящее со стороны неотрывно стоял страх. Какой уж юмор, когда душа полна страха! Объяснение с капитаном, отношение в отдел кадров, персональное дело на партсобрании, запись в личное дело — и захлопнут визу.
Шапка, ватник, куртка, брюки, рубаха…
Каждый предмет одежды оказался связан с моим человеческим естеством интимными связями.
Я остался в исподнем, голый до пояса и в носках.
Фельдшерица сонно читала книгу, лейтенант ухмылялся, рядовой Степанов хмурился. Последнему, мне хотелось на это надеяться, не нравилось происходящее.
— Ну, пойдем, моряк, отдохнешь, — сказал он.
— Босым я никуда не пойду, — сказал я.
Хотя меня заставили поджать хвост и хотя меня трясло, как собаку на морозе, как Каина, но эта дрожь из нервной и ознобной стала превращаться в слепое дрожание души. В таком состоянии я вижу впереди как в перевернутый бинокль — с четкостью фотовидеоискателя начинают работать зрачки. А все, что не прямо по направлению взгляда, расплывается в красноватой мути. Я видел стол, лейтенанта, телефон рядом с ним и графин на подоконнике. И я бы забыл великую истину: «Спорить с милицией или патрулем может только салага!» И я бы взялся за графин, если бы Степанов не дал мне две калоши сорок девятого или шестидесятого размера.
— Обуй. И не переживай. Утро вечера светлее, — сказал Степанов.
Возможно, он уберег меня от непоправимого.