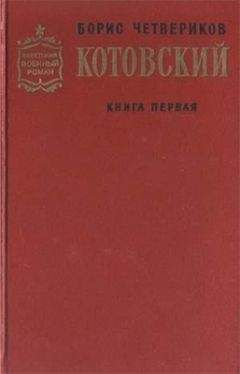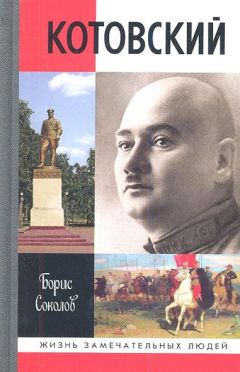Борис Четвериков - Котовский. Книга 2. Эстафета жизни
Время шло. Разочарованный романист порвал со своим героем. А мысль работала. Ее не остановить. Вдруг, неожиданно для самого себя, Марков подумал:
«А почему бы мне не взять Стрижова от сих до сих, а дальше сделать своего Стрижова, какой мне кажется наиболее типичным для нашего времени? Могу же я делать такого Стрижова, какого мне надо, а не списывать в точности, буква в букву, с житейского подстрочника?! С другой стороны, почему бы моему герою и не ошибиться? Чего я, собственно говоря, так переполошился? Почему у него не может быть какого-то изъяна? Разве все сразу разобрались что к чему? Может быть, именно это и поможет создать убедительный образ? Может быть, именно это и будет типично?»
Одним словом, Марков много раз обмозговывал все то, что являлось предметом споров в литературной среде того времени. Там тоже говорили о положительном герое. Некоторые настаивали, что надо обязательно показать какую-нибудь червоточинку, потому что не существует идеальных людей, следует избегать лакировки, нельзя писать двумя красками — черной и красной, и так далее в этом же роде. Другие им возражали.
Итак, Марков готов был принять облюбованного им героя со всеми его недостатками и приговаривал:
— Полюбите нас черненькими. Беленькими-то всякий полюбит.
Но тут же сам себе возражал:
— Не люблю черненьких! И не буду любить. С какой стати?
Дальше шли его размышления:
«Вот взялся бы я, например, написать роман, где главное действующее лицо — Котовский. Неужели понадобилось бы выискивать, нет ли чего-нибудь в этой светлой личности плохого, хотя бы маленьких отрицательных черточек? Некоторые упрекали его в партизанщине, другие отмечали его вспыльчивость. Но я-то сам прошел все военные дороги под водительством Котовского, сам наблюдал повседневно этого удивительного человека — и не могу сказать о нем ничего плохого. Дай бог каждому походить на него! Водятся на свете этакие соглядатаи, мелкие душонки, которым нет большего удовольствия, как сказать пакость про хорошего человека. „Иван Иванович, говорите, премилый? Да от него жена сбежала. Петр Петрович талантлив? А как он пьет! Мопассан? А чем он был болен? Достоевский? Читал я, как он в рулетку проигрывал женины браслеты!“»
…Анна Кондратьевна смотрела на Маркова благожелательно, слушала, говорила со всей искренностью. Марков тоже хотел быть вполне искренним, но оказался в затруднении: он не сумел бы пояснить ей всех своих сомнений, может быть, несколько смешных поползновений не попросту дружить с Евгением, а рассматривать его как некий экспонат и сердиться, что Евгений не совпадает с эталоном. Да и вряд ли она поняла бы его путаные рассуждения. И он просто сказал:
— Можно сердиться, можно спорить, но дружбой кидаться нельзя. Я кругом виноват. Разыгрываю чистоплюя! Не нравится что — скажи. Пьет? Ругай его. Ты не поп, чтобы отпускать грехи, но и не прокурор, чтобы клеймить преступника. Вы видите, я и сам-то себя не понимаю. Но Женька мне друг, и я, несмотря ни на что, пришел. Вот. Книгу принес. С автографом. Мою.
— Спасибочко. Сами написали? Подумать только! Мне бы сроду не написать. Заявление писала недавно в жакт, что дрова у нас крадут, и то намучилась.
— Да. Так вы говорите, медицинский бросил? Ушел на завод? Плохо.
— Уж не знаю, плохо или хорошо. Мне-то хотелось, чтобы он по стопам отца шел. А детки не всегда по стопам-то ходят.
— Что ж это он? Без специальности? Чернорабочим?
— Что вы, голубчик мой! — замахала Анна Кондратьевна на Маркова руками. — В технику ударился, днем работает, вечером учится. Да он сам все расскажет, вот-вот обедать прибежит.
— Как же его держат на заводе, если вы сами говорите, что он пьет?
— Я говорю? Очкнитесь, батюшка! Женя в рот не берет проклятущей этой водки. И в доме не держим.
— Вот те на! Да вы только что сами же сказали…
— Сказала. Пил. Вы что же, совсем ничегошеньки не знаете? Называется, дружок! Пил, безобразничал, с отпетой шпаной водился. «Все равно, мама, жизнь пропала!» А я ему все нашатырного спирту нюхать давала, не нравилось, отворачивался, а я ему: «Нюхай, несчастный!» И все это шло до самого дня, когда нас горе постигло.
— Горе? — дрогнувшим голосом спросил Марков.
— Горе. Владимир Ильич скончался. Великое горе. А надо сказать, Евгений-то сильно Ленина уважал. Как громом нас ударило. Опасалась — руки на себя наложит. «Мама, кричит, презирайте меня, предатель я, последний я человек». Думала я, ну, теперь окончательно покатится сынок под горку, не остановишь. А вышло наоборот. Весь день где-то шатался, я, конечно, по своей дурости полагала — по кабакам. Пришел серьезный такой, молчаливый. «Мама, я в партию записался. Многие сейчас в партию вступают, Ленинский призыв». — «Ну что ж, говорю, сыночек, поступай, как совесть подсказывает, только привычки-то у тебя больно беспартийные». — «С этим, мама, покончено. Дурь, говорит, на меня напала, а теперь все выветрилось». Пришли его «жоржики» приглашать на танцульку, а он их за дверь выпроводил: «Я, говорит, больше вам не компания»… Вот как у нас!
Марков сидел в оцепенении. Всего он ожидал: и жалоб, и слез, и проклятий по адресу непутевого сына, но только не того, что рассказала Анна Кондратьевна. Она замолкла, смотрела на него торжествующе и была несколько обижена, что он не выразил радости по поводу внезапного превращения Жени.
Наконец Марков пришел в себя. Буря мыслей, чувств пронеслась у него в голове. Он бросился к Анне Кондратьевне, обнял ее, расцеловал и только бормотал:
— Анна Кондратьевна! Анна Кондратьевна! Что же это такое?..
— Значит, рады?
— А как же! И главное, Анна Кондратьевна, какой сюжетный поворот, это же чудо! Самому бы никогда не выдумать.
3
Может быть, Марков долго бы еще кричал, вопил и силился объяснить Анне Кондратьевне законы сюжета и значение сюжетных поворотов, но в этот момент раздался звонок.
— Батюшки, а я и суп не поставила подогревать, заговорилась с вами… Пришел, пришел мой сыночек! Ключ, что ли, забыл? Чего звонит?
С этими возгласами Анна Кондратьевна бросилась открывать дверь, но вместо Евгения в квартиру ввалилась шумная компания юнцов.
— Куда вы? Куда вы? Говорю же, нет его дома!
— Ничего, бабуся, над нами не каплет, обождем.
— И ждать нет никакой надобности!
— Как же вы говорите, его нет, а это кто за столом сидит?
— Эжен! Или это не он? Пардон, боку бонжур, фрикасе! Ха-ха-ха!
Вся орава ввалилась в комнату и стала поочередно представляться Маркову:
— Ричард.
— Роберт.
— Мэри.
— Познакомимся: Марков.
— Не сердитесь, бабуся. Но Эжен нам нужен как воздух. Не обращайте на нас внимания, занимайтесь своим хозяйством, штопайте чулки и тэ-дэ и тэ-пэ. Мы как-нибудь займемся сами!
Марков разглядывал их. Их было пятеро. Две девушки, обе молоденькие, тоненькие, обе поражали обилием косметики на лице и противоестественными манерами. Можно было подумать, что они пародируют кого-то или невозможно переигрывают, изображая отрицательных, идеологически невыдержанных героинь из современной пьесы. Прически у них были ошеломляющие, с челкой и крутыми зачесами на ушах, походка вихляющаяся, платья до того короткие, что нельзя было ни нагнуться, ни сесть. Вначале Марков не расслышал, но из разговора понял, что одна из них — Мэри, а другая — Зизи. Двое молодых людей отрекомендовались Ричардом и Робертом, а третий оказался и вовсе без имени, он отзывался на кличку «Мабузо».
Марков смотрел на них с откровенным изумлением, ему не случалось встречать ничего подобного. Мабузо, в желтом свитере, в ярко-желтых ботинках, с подбритыми бровями на мелком незначительном лице, произвел на Маркова особенно сильное впечатление. Он ломался, неизменно награждаемый дружным смехом, коверкал русские и иностранные слова, придумывая какой-то «запрокидончик», «дундук», вместо tete-a-tete говоря «теточка с теточкой», а вместо «здравствуйте» — «дайте пять».
Роберт — долговязый, прыщавый — сам ничего не выдумывал, и роль его ограничивалась тем, что он при каждом трюке Мабузо дико хохотал. Ричард же молча, сосредоточенно щипал девочек и с удовольствием слушал, как они визжали.
— Do you smoke? — обратился Мабузо к Маркову.
— Вы спрашиваете, курю ли я? Нет, не курю.
— Какое разочарование! — паясничал Мабузо.
Долговязый Роберт дико захохотал, схватил яблоко из вазы, стоявшей на столе, и стал его грызть.
— Смотрите, смотрите, он ест яблоко! — вскричала Зизи.
Долговязый Роберт схватил книжку Маркова, прочел надпись, строго спросил:
— Писатель?
И, не дожидаясь ответа:
— Мабузо! Честь имею представить: твой коллега.
— Интэрэсно! — отозвался Мабузо. — В самом деле?
Повертел в руках книжку Маркова:
— Дивно! Сколько получили монет?