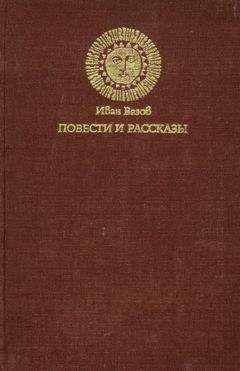Рустам Валеев - Родня
В конце сквозной улицы как бы на цыпочки привстает, завидя нас, пестрая веселая степь. Я в последний раз оглядываюсь на желтый добродушный город и ускоряю шаги, догоняя отца и глядя на его сутулую узкую спину. Мне кажется, что и во мне есть что-то от желтого добродушного города… Но, наверно, я скорее похож на хулигана, и глаза под тем козырьком, наверно, глядят ухарски. И все равно кажусь себе добродушным и даже немного жалостливым.
Отца я любил, но не сыновней, а вот, может быть, приятельской любовью. За чудачества отца я не краснел, во мне была уверенность, что он всегда выйдет из любого затруднительного положения. Его прозвали Купцом Сабуром, хотя вот уже сорок лет он был только печником. Наверно, в таком прозвище было что-то оскорбительное, во всяком случае для меня. Но я относился к этому так, как если бы у меня был очень близкий мой товарищ-чудак, о котором меня могли спросить: «А где же этот Купец Сабур?» А я, усмехаясь, но и очень гордясь им почему-то, мог бы ответить: «О-о, Купец Сабур там-то и там-то». Ну вот так я любил своего отца, Купца Сабура…
Степь как бы увидела нас. Она сразу стала огромной, очень высокой. Огромно и сине посмотрела она на нас и повела широкой пыльной дорогой между желтых и зеленых трав. Вскоре впереди показался фургон, который тащили два огромных вола. Отец окликнул возчика, тот кивнул нам, и мы сели в фургон, свесив ноги между решетками из жердей.
Скрипит ярмо, потрескивают колеса, вздыхают волы. Мы курим дикую махорку, и запах ее и вкус соединяются с запахами полыни и чабреца. Суслики стоймя стоят на взгорках и попискивают. Их писк перебарывает даже колесное потрескивание и поскрипывание — такой настырный, всепроникающий писк у этих сусликов.
— Детки, детки, — бормочет отец. Он наблюдает сусликов, и можно подумать, что «детки, детки» обращено к этим тварям. Но вот он глядит вперед, на понуро текущие спины волов, — может, он волов называет так: «детки, детки»?
Степь желта, в монотонной желтизне ее теряются выцветшие султаны тырсы. И тырса отцвела, и белая полынь, и розовые кермеки — они превратились в большие белые шары, и ветер без натуги срывает их со стебля, а там они сами несутся, как ошалевшие от воли зверьки. Желто, только изредка попадаются блюдцеобразные впадины, в которых после первых осенних дождей отросли мятлик и пырей. Травостой там густ и зелен и чужд облику натерпевшейся от летних засух степи. Среди серебрящейся полыни кое-где сверкает свежая травка, взошедшая на смену опаленной. Смолисто пахнет чабрец, пряным шибает от полыни.
Я забываю про дом и город. Мне кажется, что у меня нет и не было своего дома, не о чем жалеть, не о чем вспоминать. У меня есть только то, что есть впереди — за ближним днем или дальним. Все будущее, все запредельное я как бы уже знаю и, даже не соприкоснувшись с ним, уже могу вспоминать о нем и даже, может быть, рассказать, если спросят, — рассказать так, как если бы это у меня уже было, как будто это и есть все то, о чем можно жалеть, вспоминать и любить отдаленно. Мне кажется, что я могу спокойно слезть с фургона и, не оглядываясь, уйти куда глаза глядят. И ничто не обеспокоит, не будет сомнений, будто я что-то недодал отцу, недосказал, нет! — ничего я ему не должен и ничего сам от него не хочу. А тому желтому и сморщенному существу, которое зовется городом и которое так добродушно, так приязненно смотрело на меня, покуда я шел по улицам, я мог бы даже крикнуть что-нибудь вроде: «А пошел, ты, старый болван! Отстань, дурачина!»
Ух ты, дух захватило! Я перевожу взгляд на руку отца, которая слишком цепко держится за жердину — он дремлет, отец, — я гляжу на эту широкую коричневую с тыла ладонь и тихонько ласкательно задеваю ее.
2С полчаса, наверно, я сидел скованный не то чтобы усталостью, но совершенным отсутствием интереса к окружающему, без желания что-либо делать или говорить. Все, что я мог бы перенести в странном своем оцепенении, так это немую дорогу, на которой запечатлелись следы копыт и две колеи от фургона…
Тут повозка дернулась, возница бодро прикрикнул на волов, как бы отряхнулся от дремы отец. Я повернулся вперед и увидел, что дорога пошла под уклон, к речке. Молча я выпрыгнул из фургона, схватив половчей баул. Отец, тоже не говоря ни слова, слез за мной, хотя, наверно, он не прочь был доехать до места. А мне вздумалось перейти речку вброд. Я сбросил ботинки, подхватил их и побежал. У самой воды, однако, я остановился и сказал отцу, что он может топать через мостик. Но он стянул ичиги и отважно ступил за мной в воду. Вода едва закрывала щиколотки, но была студеной, и мелкая галька на дне так колола ступни, что мы пошли вприпрыжку и, конечно, замочились.
А земля была теплая, теплей, чем вода, мы не стали обуваться. И в контору ввалились босиком. Директор совхоза Сильвестров, похоже, ждал нас. Он сурово кивнул нам и поглядел на наши босые ноги. Привычная контора, наверно, казалась ему безобразной: старая печь была разобрана и кирпичи вынесены наружу, но грязи было навалом. Желчным голосом Сильвестров сказал, что ожидал нас раньше. Нет, такой человек не мог ворчать, упрекать, уговаривать — он мог быть желчным, суровым, злым — все, что угодно, но только не мямлей. У него было сухое обветренное лицо в резких морщинах на лбу и в углах сурового рта.
— Так, так, так, — сразу заговорил отец, опуская в угол свой мешок и подталкивая мой баул туда же. — Так, так. — Он кивал на каждое слово Сильвестрова, оглядывая основание фундамента, потопывал по краешкам досок, обрывающимся у фундамента. Можно было подумать, что он уже принялся за дело.
Тогда и Сильвестров заговорил только о деле. Он сказал, что нам выделена повозка и два вола, чтобы возить воду, глину и песок, помогать нам будут двое его рабочих; что заготовлен новый кирпич, есть и старый, оставшийся от разобранной печи. Где брать глину — покажут рабочие. Песок, известно, на речке.
— Так, так, так, — говорил отец, похаживая по комнате, и Сильвестрову то и дело приходилось уступать ему дорогу. Наконец директор оказался вытеснен на крыльцо, там он стал что-то говорить своим рабочим. А отец уселся на пол и жестом пригласил меня. Мы стали крутить цигарки.
Я знал, что отец сейчас и думать не думает о работе, ему наплевать, есть ли кирпич, будут ли нам помогать, даже вопрос с жильем и возможность брать продукты на складе совхоза не волновали его совершенно. Ему стоило бы оценить, что такое наплевательское отношение к работе не бесит меня. Я никогда не тороплю его и полностью доверяюсь ему, пока дело наконец не закрутится само собой. Тогда уж оно все будет в полной моей власти, что, впрочем, нисколько не ущемит отца.
В открытую дверь было слышно, как на крыльце переговариваются шепотом, судя по голосам, девчонка и парень. Затем в контору вошла девчонка в ситцевом платьице, в косынке, завязанной у подбородка, в стоптанных сандалетах на босу ногу.
— Родион Ильич велел сказать… — начала она, глядя на меня. Но отец сказал ей:
— Кыш, кыш!.. — и решительно показал на дверь.
Девчонка убежала, что-то сказала своему приятелю, потом оба они спустились во двор.
А мы сидим себе и курим махорку. В комнате гуляет сквозняк, но пахнет одной только кирпичной и известковой пылью. Накурившись вдоволь и не проронив ни слова, мы решаем наконец перекусить. Я выхожу на крыльцо и спрашиваю девчонку, где бы нам вскипятить чайку.
— А в столовую вы не хотите? — спрашивает она кротко.
— Нет, — отвечаю я и, уже не глядя на нее, спускаюсь во двор, ставлю два ряда кирпичей, наверх кладу плиту от старой печи — вот и очаг. Затем приношу наш чайник и подаю его девчонке, чтобы она сходила за водой. Пока она бегает, я растапливаю печку и ухожу в контору. Небось догадается поставить чайник на плиту.
Минуты через две девчонка появляется в комнате и говорит, что поставила кипятить чай. До чего она смешная, такая робкая и кроткая. Я снисходительно спрашиваю:
— Как тебя зовут?
— Аня, — еле слышно отвечает она.
— А кто этот парень?
— Это Гена, — отвечает она.
— Гена, значит. А почему вы сидите во дворе, а не пойдете по домам?
— Родион Ильич велел помогать вам.
Я неопределенно киваю головой, и она исчезает за дверью. Вот и кипяток поспел, я завариваю чай в жестяной кружке и ставлю ее на свою куртку, укутав по бокам. Пусть настоится как следует. А пока мы опять сворачиваем цигарки и молча дымим.
Трапеза наша продолжительна и наполнена молчанием. Мы не столько упиваемся едой и чаепитием, сколько этим пребыванием в одиночестве и молчании. Появись здесь Сильвестров, он решил бы, что мы лодыри — не приведи бог! Такому занятому и деловитому человеку некогда было бы, наверно, поглядеть на наши лица, точнее, на лицо отца. Он бы увидел, какое оно одухотворенное, свободное от мелких забот бытия. Он увидел бы, с какой небрежностью пьет отец свой любимый чай и ест лаваш — он проделывает это, как аскет, для которого достаточно черствого куска и глотка воды для поддержания сил.