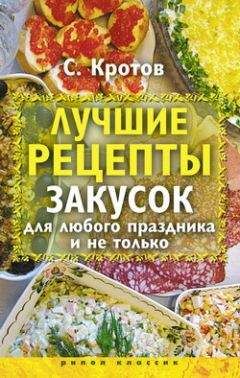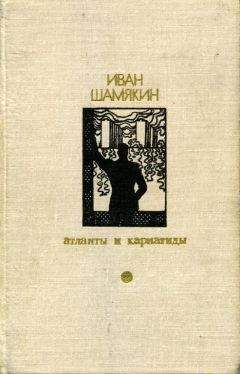Иван Шамякин - Снежные зимы
Он, Антонюк, не злопамятен. Но, на свою беду, ничего не забывает. И актер плохой: не сыграет уважения и почтительности. Испортит настроение высокой персоне, навредит себе. Решил: не идти. Если разговор действительно серьезный — пусть позовет кто-нибудь из тех, кто тогда поддерживал его. Были такие люди. Но Ольга не одобрила его решения, хотя, конечно, понимала мужа. Ольга мягко и осторожно стала уговаривать его пойти. Мол, не целоваться тебе с ним, не он же тебе работу будет предлагать — государство. Это, безусловно, не его инициатива. Считай, что говоришь не с Семеном Семеновичем, а с человеком на определенном посту, который он пока еще занимает. Если б жена по примеру других жен так уговаривала его из эгоистических соображений — из-за денег, положения, — ни за что не пошел бы. Но нет, у Ольги другое. Ей кажется, что это последняя возможность вернуться на работу, которая, по ее мнению, нужна ему как воздух. Не хотелось огорчать жену. Был благодарен ей за такт и сдержанность: после отъезда Виталии — ни слова о Наде, вообще о прошлом. Пошел.
Семен Семенович и вправду встретил чуть ли не объятиями. Иван Васильевич отворил дверь — тот уже посреди кабинета, на пестром ковре, дородный, веселый, улыбка во все широкое, по-мужицки простое лицо. Долго жал руку. Хлопнул по плечу.
— Рад приветствовать, рад. Давно не видел. Как живешь? Что не заходишь? Обиделся? Напрасно, напрасно. Кто из нас не ошибается! — Однако не стал уточнять, кто из них двоих ошибся. — Как семья? Все здоровы? Слава богу.
Сам спрашивал — сам отвечал. В бодром тоне. Зная эту его привычку. Иван Васильевич когда-то пошутил: на вопрос «Как семья? Все здоровы?» — ответил с печальным видом:
— Плохо, Семен Семенович.
— Что такое?
— Бабушка умерла.
— Твоя?
— Да.
— И ты так горюешь?
— Вырастила она меня.
— Сколько же ей лет?
— Девяносто семь.
— Сколько? И ты так скорбишь о такой древней старушке? — Очень это удивило Семена Семеновича, и он на полном серьезе утешал осиротевшего внука.
Да, он такой, Семен Семенович. Входят пионеры приветствовать съезд — стоит в президиуме и, не стыдясь всего зала, плачет, как бобер, — от умиления. А через десять минут бросает с трибуны серьезнейшие политические обвинения товарищу по работе, который когда-то в чем-то не согласился с ним.
Антонюк не «клюнул» на вопросы о семье, о здоровье. Его сдержанность заставила Семена Семеновича насторожиться. Обидела человеческая неблагодарность. Но он умел великодушно подняться выше мелких обид. Усевшись за модернизированный стол, начал длинную — нельзя сказать, что не интересную для того, кто первый раз слышит, — лекцию об осушении и освоении болот на новом техническом и агрономическом уровне. Антонюк знал: умеет товарищ показать свою эрудицию. Но не мог не удивляться: неужели человек настолько потерял чувство меры, такта, что щеголяет своими знаниями перед ним, агрономом, да еще бесстыдно, прямо в глаза, повторяя его, Антонюка, давнишние высказывания. Очень хотелось сказать: не занимайся плагиатом, дорогой Семен Семенович, но, помня наказы жены и свое обещание, молчал, терпеливо слушал. Однако не выдержал-таки в конце концов, перебил:
— В мелиорации расширяются штаты?
Семен Семенович удивился — не сразу сообразил, о чем он спрашивает. Понял — рассмеялся. Не терпится узнать, что тебе предложат? Нет. Не в мелиорации. — И назвал должность, равнозначную той, которую Антонюк занимал до своего вынужденного двухлетнего отдыха. Кажется, все хорошо, но… Ивана Васильевича поразило предложение. Во-первых, это была другая область, надлежало заниматься не выращиванием технических культур, а переработкой их в готовую продукцию. Что ж, в конце концов можно, как говорится, отведать и этого хлеба, работа не менее благодарная. Но… еще одно: непосредственный начальник — Корольков. Тот самый, который так стремился первым улететь из партизанской зоны. Случайность? Да нет, Семен Семенович с Корольковым, кажется, друзья.
— Корольков знает, кого ему предлагают в заместители?
— А как же… Скажу больше: это его личная просьба.
— Странно.
— Что тебя так удивляет?
— У нас с ним сложные отношения. С войны.
— Что там у вас в отряде было? Бабу не поделили, что ли? — хохотнул Семен Семенович, хитро прищурив глаза под рыжеватыми, как бы выгоревшими на солнце бровями. Грубо дал понять, что знает все грехи Антонюка. Но, должно быть увидев, как посетитель изменился в лице, и зная его характер, укоризненно, по-отечески покачал головой и сказал добродушно: — Злопамятный ты человек, Иван Васильевич.
— Не злопамятный. Но к Королькову не пойду.
— Много потеряешь.
— Что я могу потерять? Пенсию?
— На пенсию твою никто не посягает, но если ты действительно хочешь работать…
— Я действительно хочу работать.
— То советую поразмыслить. Подумай. Поговори с женой, с друзьями. Не торопись. Зачем нам спешить? Иван Васильевич! Мы уже не молоды. В таком возрасте надо прощать обиды…
— …и замаливать грехи. — язвительно подсказал Антонюк. — Я это и делаю.
Он кипел, и это кипение, видно, почувствовал Семен Семенович. Встал с кресла, выпрямился, окинул взглядом кабинет, как бы подчеркивая свое величие, свой сан: не вздумай, мол, оскорбить при исполнении служебной миссии. Иван Васильевич сдержался: на кой черт ему лезть па рожон. Вышел взволнованный, но, пока шел по лестнице, почти успокоился. Даже не потянуло побродить, как обычно после таких разговоров. Забавляло неожиданное Семеново толстовство: «Надо прощать обиды…» Все-таки, видно, грызет тебя совесть. Хочется, чтоб тебя простили…
Была оттепель. Снег таял, он выпал ночью, и улицы не успели очистить даже здесь, в центре. Под ногами — скользкое месиво. В воздухе пахло весной…Ольга выслушала молча. Тяжело вздохнула:
— О боже!
— Чего ты вздыхаешь?
— Ничего, — и ушла на кухню.
Это ее «о боже!» хуже самых многословных упреков. Разозлился. Но и жалко было жены: она вбила себе в голову, что спасение его только в работе. От чего спасение? Мало он поработал? А теперь разве сидит сложа руки? Ольга вернулась. Сказала будто бы весело, будто бы в шутку:
— Если б я была, как другие жены, продолбила бы я тебе макушку за такие «взбрыки»… Ты хуже Васи, когда ему было семнадцать… В двадцать три он сам поумнел, а ты…
— Ольга, это не «взбрыки». Существуют принципы.
— Но я не такая, как другие. Во всем не такая. Нет. — И вдруг расплакалась.
Ивана Васильевича в первый миг слезы жены ошеломили: из-за чего трагедия? А потом разозлился:
— Не строй из себя мученицу! Мерзкая роль! Лучше уж ругай. Бей тарелки. Попрекай за все грехи! Я стерплю. Но ни ты и никто другой не заставят меня кланяться Королькову или Семену.
Дня через два после этого разговора случайно встретил на улице своего выученика, сотрудника, который лет шесть назад по собственному желанию поехал в совхоз, — Казимира Захаревича. Непоседливый такой парень был, худощавый, очень не любил заниматься бумагами и любил в командировки ездить. Иван Васильевич не видел его года три. Оба обрадовались встрече.
— Как живешь, Казимир?
— Разве по мне не видно? — Директор совхоза надул розовые щеки, ткнул в них кулаками, грохнул хохотом на всю многолюдную улицу.
— Черт побери, отчего вас так разносит? Я же знаю жизнь директора. Весь день на ногах… В пять встаешь, сразу на воздух…
— Так, может, от воздуха, Иван Васильевич? — зубоскалил Захаревич.
Слово за слово, то всерьез, то в шутку, — и почувствовали, что есть у них о чем поговорить, хочется посидеть. Прихватили бутылочку, отправились к Антонюку. Сперва хозяйничали сами. Потом вернулась с работы жена. Стол был накрыт заново, женскими руками, с обычным Ольгиным радушием. Когда славно поговорили — каждый из них умел и рассказать, умел и послушать другого (редкий талант) — и немножко выпили, Захаревич неожиданно предложил:
— Иван Васильевич, плюнь ты на все, и идем ко мне главным агрономом.
Мгновение стояла тишина. Хозяева уставились на гостя. Тот смутился: неужели обидел таким предложением? И вдруг Иван Васильевич разразился хохотом. Откинулся на спинку стула, задрал голову и прямо-таки заливался смехом. Захаревич совсем сконфузился: смеются над ним, дураком.
— Ольга! Слышала? Ей-богу, гениально. А травы запахал?
Захаревич все еще не понимал, в чем дело. И Ольга не понимала. Иван Васильевич опять засмеялся и тут же умолк.
— Ты серьезно?
Серьезно, — неуверенно отвечал директор.
— Не боишься?
— А чего мне бояться?
— Опыта у меня больше.
— Тем лучше.
— Согласен! Ольга! Я согласен! Как до сих пор не подумал, что мне надо вернуться не в мягкое кресло, а в свою молодость, к земле, к людям, которые на ней работают. Так просто и так мудро! Я ведь мог давно. Нет, не мог. Тогда, до октября, меня, верно, никто не взял бы и никто не утвердил — травянист, антикукурузник. А теперь, думаю, не решатся возражать. Ни обком, ни райком.