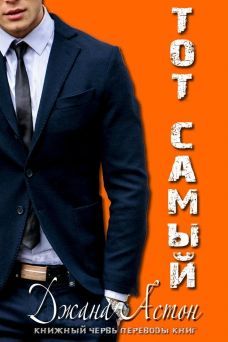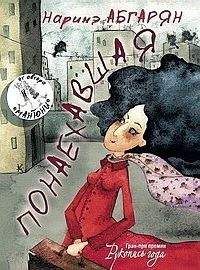Станислав Родионов - Вторая сущность
— Сам построил? — неуверенно сыронизировал я, памятуя его вопросы в моем доме.
— Ага.
— Все… сам?
— До последнего гвоздя, — довольно и поэтому как-то утробно подтвердил он. — Приехал сюда. Сторож, говорят, нужен, а жить негде. Дали участок, материалы… А построить долго ли, шишечки-едришечки?
Я хотел было кое-что вставить насчет «долго ли», но меня отвлекла пустяковая догадка: когда Пчелинцев осуждал или злился, то говорил «шишки-едришки», а когда одобрял, то в ход шли уменьшительные «шишечки-едришечки».
— Дом простоит два века. Богатырь! Тут всяк сучок со смыслом. Скажем, сосновые бревна. Северными боками уложены наружу. Почему? На северной стороне годовые кольца чаще. Значит, и древесина крепче, и простоит дольше.
Прижавшись к фундаменту, дом опоясывала бесконечная скамья, сбитая из оструганных плах. Перед ней в неуловимом порядке там и сям краснели безымянные для меня кустики, ершились хвосты папоротников, кипарисиками стоял можжевельник… К крыльцу вела геометрически прямая дорожка среди полуметровых частых сосенок, сеянцев, тонких и зеленовато-сизых, будто задетых инеем.
— Шишечки-едришечки. — Он погладил пока еще мягкие иголки.
Я загляделся на крыльцо — кленовый лист из красноватой жести на четырех резных столбиках. Подобное крылечко где-то я видел, кажется, в мультфильме о царе Салтане. Мы поднялись. У двери, ожидаючи нас, стоял подросток.
— Моя жена Агнешка, — сказал Пчелинцев, вроде бы сам этому удивившись.
— Агнесса. — Подросток протянул маленькую плотную ладошку и улыбнулся.
— Антон, — промямлил я.
И рассмотрел ее в начавшихся сумерках: узенькая фигурка в брючках и тугом темном свитере; короткие волосы, падающие на брови; красные, до темноты, губы… Уже в передней, при электричестве, удивился ее глазам — черным и таким огромным, что они, казалось, заслоняли все лицо.
Мы вытерли ноги о сосновые ветки, набросанные вместо коврика. Пахло деревом, не досками или бревнами, а непередаваемым и благородным запахом, может быть какой-то особой породой древесины, — так пахло в бревенчатых избах, часовнях и церквушках в музее деревянного зодчества под Новгородом. На стенах висели разной толщины, длины и загогулистости коричневые палки, которые из-за растрепанной тряпичной коры казались лохматыми.
— Можжевеловые, — объяснил Пчелинцев. — Для посохов. И тебе сделаю.
В комнате я, естественно, ожидал увидеть столы из досок и скамьи из жердей. Но в просторной, прямо-таки гостиной, оказалось уютно и современно. И только осмотревшись и присмотревшись, я понял, что в подобных квартирах никогда не бывал…
Шкаф во всю стену был собран из тонких труб, вставших прижато друг к другу от пола до потолка; я прикоснулся, и вместо холодка они отозвались теплом — сосенки, равные до микрона и отполированные до сияния. Круглый большой стол посреди, накрытый скатертью, на которой древесные узоры, разные кольца, овалы и волны, кажется, были вышиты; я опять-таки потрогал и опять ошибся — эти узоры оказались натуральными, а ниспадающие складки скатерти были вырезанными тоже из дерева, продолжая столешницу. Я воззрился на стены, оклеенные обоями под березку, отчего в комнате белел почти дневной свет.
— Это не обои, — перехватил мой взгляд сторож. — Натуральная береста наклеена.
Я опустился в кресло-качалку, выдолбленную, по-моему, из цельного ствола. И увидел в углу домик на курьих ножках, у которого вместо окна, откуда полагалось выглядывать бабе-яге, блестел телевизионный экран.
— И его сам? — вырвалось у меня.
— Трубку и детали купил, а собрал сам.
— Уж показывай весь дом, — почти торжественно подсказала жена.
— Ну, в нашу спальню не пойдем, а вот тут ребячья.
В ребячьей сперва я увидел рожи на всех четырех стенах, всяких размеров, выражений и смыслов, сделанные из всего, что растет в лесу. Особенно поражали носы, сотворенные из шишек, чаги, сучков, корней; у лешего был носик из высушенного окривевшего мухомора. Но кроме рож увидел и доску с выжженными словами:
Хочешь счастья себе и народу?
Люби труд, людей и природу.
Видимо, этот стих мой взгляд задержал, поэтому на пол я глянул с опозданием. Из-за громадных лосиных рогов меня изучал белобрысый мальчишка лет семи. Пятилетняя черненькая девочка, уменьшенная мама, разглядывала с пенька.
— Оля и Коля, два моих короеда. А это дядя Антон.
— Вы сосны любите? — подозрительно спросил Коля.
— Люблю.
— А труд?
— И труд, и людей, — неуверенно продекларировал я, глянув на стихотворный плакат.
— А сказки знаешь? — спросила Оля, подкатывая на своем пеньке, который оказался на колесиках.
— Как же, — промямлил я, вспоминая, но, кроме мультфильма «Ну, погоди!», ничего в голову не приходило.
— Про самовар, в котором Маша варила кашу, знаешь?
— Эту не знаю.
— А какую знаешь?
— Про этот… про беляшок.
— Про какой беляшок? — загорелась Оля, и волосы над ушами задрожали от нетерпения.
— Не совсем беляшок, — позабыл я название печеного изделия. — Вернее, белешок, только без начинки и покруглее.
— Колобок, — сурово догадался Коля.
— Вы, ребята, обедали, а дядя Антон нет, — выручил меня Пчелинцев.
Но сперва мы прошли на веранду. Большая, метров двадцать, она походила на парник — стекло от пола до потолка. Видимо, днем тут буйствовало солнце. Все это — стеклянные стены, простор, плетеную мебель, вид на потемневший сад — как бы заслонил от меня крепкий и непонятный дух, ничуть не похожий на запах дерева. И тогда я увидел, что вся веранда заставлена и заложена коробками, листами бумаги, берестяными туесами и решетами. В углу, прямо на пол были свалены яблоки. В двух ведрах раскаленно краснела брусника. На протянутых нитках редкими зубьями темнели грибы. И всюду травы, травы…
— Понюхай.
Пчелинцев взял со стола охапку травы, которая топорщилась пиками, — в нос мне ударил крепкий, прямо-таки осатанелый запах, которого я, разумеется, не знал.
— Багульник. А эта?
Желтые невидные цветочки на тонких стеблях — запах чуть спиртовой, будто яблоко с морозца.
— Зверобой. А эта?
Какие-то кремовые пупырышки, очень знакомые, с сильным, слегка больничным запахом.
— Ромашка. Эта?
Зеленые, свяленные и потемневшие листья, от которых потянуло глухой горячей ямой и детством.
— Крапива. Вот?
От шершавых, уже высушенных листьев, с матовым налетом на обратной стороне, вдруг запахло солнцем.
— Листья малины. Ну а это?
Перед моим носом возник гномик в шляпочке — от него пахло землей, мхом и старой древесиной.
— Гриб, — тут уж я догадался.
— Цельный сушеный боровичок.
— Володя, пора к столу, — позвала из сумерек Агнесса.
Я верил в объективность мира. Но знал и то, что мы редко постигаем эту самую объективность. — все зависит от нашего взгляда в тот момент, который заключает в себе и какой-то свой угол зрения, и состояние нашей души, и настроение, и посылы ума. Садясь за стол, за деревянную скатерть, я вдруг глянул на Пчелинцева иным взглядом, невесть откуда взявшимся, — может быть, трав надышался? Или обед предвкушал? Теперь к его острым ушам, к жилистой длинной шее, к узким глазам за прямоугольником очков, ко всей его механической настырности я не чувствовал прежней неприязни. Он даже показался мне смущенным. И в этом его смущении мне приоткрылось еще что-то, не перелагаемое на слова и фразы.
В конце концов, я уехал не только от людей — я уезжал и от себя. От себя, говорят, не уедешь. Но я знал способ… Чтобы спастись от своей персоны, нужно отыскать как бы противоположного человека — такого, у которого все не как у тебя. Например, Пчелинцева.
— Антон, вы какую наливку попробуете? — спросила Агнесса.
— Какую вы, такую и я.
— Мне нельзя, а Володя не пьет.
— Тогда не буду, — вяло отказался я.
— Проси морошковую, не ошибешься, — подмигнул мне Пчелинцев.
Морошковая наливка походила на чуть разжиженный мед — такая же густая и янтарная. Казалось, кроме сладости и аромата, да еще терпкого привкуса — горькое болотце? — в ней ничего не было. Но в ней было. После рюмки я вдруг застеснялся Агнессиных больших глаз, которые при свете увеличились еще больше. И деться от них некуда. Тем более что Пчелинцев молчал, позабыв про гостя, уминая вторую тарелку грибного супа.
— Он ест раз в день, но с волчьим аппетитом, — заметила Агнесса, радуясь.
То ли от наливки, то ли от пряного грибного пара, но во мне тоже прорезался волчий аппетит. Таких супов я вообще не едал. А хозяйка уже подавала тушеного кролика с брусникой.
— Хорошо живете, — сказал я, решив передохнуть.
— Почему бы нам не жить хорошо? — удивился Пчелинцев.
— Бывают семьи с недостатками да нехватками…