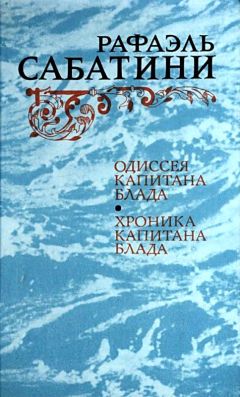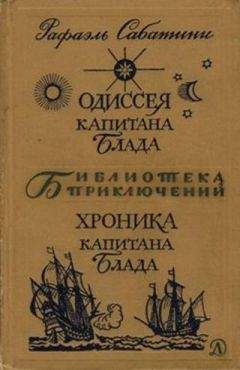Радий Погодин - Мост. Боль. Дверь
В котельной у тумбочки сидели Кочегар и, Петров вздрогнул, тот самый мужик в светло-коричневых брюках, который сломал тюльпаны.
— Казанкин, — сказал Кочегар. — Лева.
Фамилия была как будто известна Петрову еще до их достопамятной встречи, но скорее всего по кино или телевидению. Наверное, какой-нибудь киногерой. Скажем, капитан Казанкин, сапер.
— Да мы знакомы вроде, — буркнул Казанкин, подняв на Петрова печальные глаза. — Тоже мужик загубленный, как и я. Петров, сердишься? А ты и меня пойми — обалдел я, ошалел.
— Садись, Петров, — сказал Кочегар. — Эразм наш куда-то делся. Ни дома нет, ни сюда не приходит — не иначе в море. Скажем, обретается он сейчас в Лондоне. Все сам бери, Петров, и табуретку и кружку. Это Казанкин. Пенсионер. Мы с ним вместе работали на заводе. Мы кузнецы.
«Конечно, они кузнецы. Кузнечики».
Петров смотрел на Казанкина грустно и недоверчиво. На пенсионера тот был похож, как племенной бык на тенора. А в груди Петрова одинокий воробышек клевал пшено.
— Был я тогда… Пенсию обмывали. Вернее, до этого был, а потом, стало быть, шел. Шел, ну. Бездумно…
В пятьдесят лет Казанкин вышел на пенсию по горячей сетке. Вообще-то он мог бы остаться в цехе, где был на прекрасном счету: имел орден и персональную зарплату. Но Казанкин начал бояться огня. Что-то в нем повернулось, и он дорабатывал чуть ли не зажмурившись. Искры окалины летели в него — он хоть бы что, боялся он спрятанного внутрь поковки жара. Ему казалось, что вот он ударит поковку посильнее — и она лопнет, как колба, и налитый в нее огонь выплеснется ему на руки. Все знали об этой его болезни и потому не удерживали и сочувствовали. Казанкин решил погулять годик, съездить на родину в Новгородскую область, да на Черное море, да а какую-нибудь соцстрану — скажем, в Болгарию (хотелось ему в Болгарию). А потом бы он снова вернулся на завод, поскольку запах пиленой древесины Казанкина просто обескураживал: разглядел Казанкин в дереве что-то такое, чего никак не мог отыскать в металле, — какую-то в дереве покойную внутреннюю доброту.
После того как Казанкина проводили, дали на память электронные наручные часы-дисплей с гравировкой от коллектива (у него-то были такие часы, только получше — японской фирмы, но подарок — это подарок, тем более с гравировкой), Казанкин, как водится, выпил.
Все это происходило в Доме культуры. Было грустно, но почему-то все хлопали. Герой соцтруда Рожнов, бригадир Казанкина, прослезился на сцене.
После было несколько тостов в буфете.
После был вечер с красивым закатом. Казанкину казалось, что поковка лопнула все же от удара стотонного молота и огонь выплеснулся на свободу. Он разглядывал свои неопаленные руки и пел. Домой в совсем новый район ему идти не хотелось, он шагал к своему земляку и бывшему собригаднику, ныне оператору газовой котельной, Иванову Егору Фроловичу, чтобы еще поговорить.
И начало портиться у него настроение. И все портилось.
Немного не дойдя до котельной, Казанкин остановился и долго глядел на крыши домов, и волна сиротства заливала его. Он знал эти крыши, как дворник знает свои дворы. И от испорченного настроения и от этих знакомых крыш он как бы уменьшился в росте и возрасте. И вот он стал совсем маленьким мальчишкой-оборвышем, сбежавшим из детского дома, чтобы жить самостоятельной вольной жизнью. А над ним, придавив его ногой в желтом полуботинке, возвышался неуловимый чердачный вор по кличке Цыган.
А Цыган-то он был не цыган, но смуглый и черноокий. Впоследствии в какой-то особый счастливый день влюбился Цыган в заезжую москвичку, наврал ей, что он фотохудожник, освоил самостоятельно это дело и отбыл в столицу свататься, да так удачно, что и сейчас там живет. Слышал Казанкин, что у него заграничные медали есть и международные дипломы за фотохудожества.
А в тот день он стоял над тщедушным Казанкиным шикарный и сытый, а Казанкину от голодного головокружения казалось, что и душа, и желудок размещены в ноздрях.
Казанкин прожил у Цыгана три года. И в школу ходил. И на завод его устроил Цыган. Сам Цыган не работал, но все его пацаны — собственно, и воровали они — работали. Цыган шпану не держал.
Ах, закат, закат — разбойничье небушко его отрочества. Никто бы и не узнал, что кузнец Казанкин был когда-то чердачным вором, если бы не этот разлившийся по всему небу, слепящий закат. Если бы не это чувство сиротства от торжественного ухода на пенсию. Плача всем нутром, озябший от воспоминаний, поднялся Казанкин по лестнице.
Дверь на чердак была не закрыта. Раньше-то на чердаках висели такие замки, что страшно было подумать, как их затаскивали на такой верх.
Казанкин вошел на чердак. Пахло пылью и чистым бельем. Стояла табуретка, застланная бумагой с перфорацией по краям. Казанкин допил коньяк. Разложил одну простыню на пыльном полу, побросал на нее все белье без разбора и связал узлом. Протолкнул узел в слуховое окно и, придерживая его, вылез на крышу. И распрямился, и плечами повел в предчувствии роскошной удачи. Небо, не загороженное домами, было слепяще новым, и оранжевые разводы — как позумент на мушкетерском бархате. Казанкин широким движением закинул узел за спину и легко зашагал по крыше. Путь этот он помнил и узнавал, хотя и утыканы были крыши телевизионными антеннами, как слаломными вешками, и выкрашены были не красным суриком, а какой-то зеленой краской. Вот он дойдет до угловой башни с выбитыми окнами, где они всегда укладывали белье в грязные бумажные мешки и спускались по лестнице уже как строительные рабочие, иногда даже с кистью на длинной палке в руках, с мастерками и кельмами. Вот он дойдет до башни и вернется, положит узел на табурет и напишет что-нибудь остроумное вроде: «Привет от Левы-пенсионера».
О том, что где-то здесь была щель между домами, Казанкин вспомнил, когда провалился в нее. Говорят же — по давно не хоженной дороге нужно сначала пустить осла.
Казанкин обеими руками вцепился в узел — единственное, за что он мог держаться. Это его и спасло. В узкой щели узел шел туго. Казанкин спускался кар с парашютом.
В щели становилось все темнее. Пахло хуже. «Вот тебе и конец», — думал Казанкин. Щель ни с улицы, ни со двора не видна, забрана кирпичом, оштукатурена и окрашена. Наверное, даже сегодняшние дворники не знают, что она есть. Кричать придется громко и долго. И когда услышат его, и тогда не поймут, где кричат. Может, старик какой вспомнит про щель. А когда пожарники приедут, да вытащат, да узнают, что Казанкин Лев Николаевич — чердачный вор и только прикидывался советским честным рабочим, высококлассным кузнецом и орденоносцем…
Казанкин ощутил вдруг, что сидит на каком-то выступе. Поерзал — сидит. Тогда он опустил одну руку, затем другую. Они ныли, словно он целую смену отмахал кувалдой. Лбом Казанкин уперся во что-то гладкое. Ноги болтались в воздухе. Казанкин чувствовал, что до земли не так уж и близко.
В глаза ему ударил свет. Казанкин ухватился за узел. Прямо перед его лицом было оконце, какие бывают в ванных комнатах и кладовках. За немытым, шершавым от грязи стеклом ничего нельзя было разглядеть. Казанкин поплевал на ладонь, протер стекло. В образовавшуюся промоину разглядел ванную и женщину в халате. Женщина готовила себе воду, вытряхивала из флакона ароматное снадобье, взбивала пену. Как бы играя. Как играет ребенок. Потом она скинула халатик. Казанкин отвел глаза. Когда же он снова глянул в промоину, женщина сидела в пене, как Афродита в адриатическом прибое, с поднятыми к голове руками.
«Неудобно, — подумал Казанкин. — Вроде я сюда специально залез подглядывать. Надо бы подождать, пока она вымоется». Он повертел головой, посмотрел в небо. Оно светилось над ним узкой, почему-то зеленой, лентой. «Потом я к ней вежливо в окно постучу… А если она вымоется по-быстрому и уйдет? Может, к тете уйдет до завтра. А может, к дяде на все выходные?» Казанкина охватил такой ужас, какого он не испытывал даже во сне, когда выплеснувшийся из поковки огонь пожирал его руки.
Он толкнул раму. Окно легко распахнулось, сбив с подоконника какие-то бутылочки и коробочки. Казанкин просунул голову внутрь. Сказал, обдирая горло словами:
— Пардон, гражданка.
Женщина ойкнула, прикрыла руками грудь. Но вот она завизжала. Швырнула в Казанкина губкой. Бутылкой с шампунем. Потом вскочила, запустила в него кусок мыла и наконец принялась плескать в него пеной.
— Да уймитесь вы, дамочка! — кричал Казанкин, захлебываясь, ошалев от рези в глазах. — Случай произошел. Успокойтесь, гражданочка. Пардон, мадам… Вы прекрасны, спору нет. Но я не для этого…
— Иди отсюда!..
— Мне идти отсюда некуда, только к вам, — возражал Казанкин. И он попытался влезть в ванную.
Дамочка завизжала еще громче.
— Только попробуй! — визжала она. — Я тебя кипятком ошпарю. — Потом она вдруг успокоилась и сказала мирно: — Отвернись хоть, мне же ополоснуться надо. Я же вся в пене.