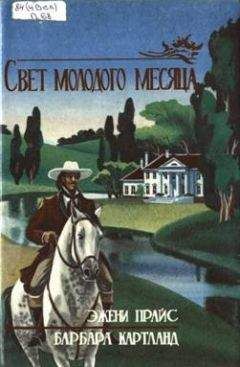Владимир Мирнев - Нежный человек
– До сих пор воюете с Шуриной?
– Так ведь полная дура, – рассмеялся Коровкин. – Как стало известно в официальных кругах, полная дуреха. Аплодисмент! Нет аплодисменту! Историческая ограниченность людей на данном этапе прогрессивного развития. Аплодисмент! Не слышу аплодисмента могучего.
И он всем своим существом почувствовал радость близости с любимой; жизнь на земле ему показалась прекрасной, и все оттого, что самая красивая женщина на земле, Мария, сидит рядом, смотрит ему в глаза с той добротой и с тем затаенным вниманием, которое может быть только у влюбленных. Сами понимаете, от подобной мысли трубно взвоют не только клетки, но и мельчайшие частички – вот какое было состояние у Коровкин. «Нет, подобной красоты я не видел, и все красавицы по сравнению с ней просто уроды, – думал мастер. – Не было на земле такой красоты и не будет».
Поздно ночью Мария проснулась, долго глядела в темноту, ворочалась, встала и начала разглядывать себя в зеркале. Вот лицо, а вот грудь. Лицо, руки, ноги, и смотреть более нечего. «Вот я, вот и весь человек, именуемый Машей». Ничего Мария в себе не находила, но всплывало в памяти изумленное лицо Коровкина, когда тот смотрел на нее, словно видел впервые, словно Мария для него – звезда неразгаданная. В такой момент тайна чуть-чуть приоткрывает свою дверь; что-то внутри ее шевельнется и замрет: кажется, еще чуточку, и перед нею предстанет удивительная разгадка изумленного Коровкина.
Виделся Марии Коровкин – изумленные глаза, растерянное лицо; стал он близким, родным человеком.
– Алеша, – сказала Мария вслух. – Я лежу и думаю о тебе. А если меня не будет, то что же изменится в мире? Ничего. Мать страдать будет, знакомые поохают. Но ничто не изменится, до слез ничто. Почувствую ли я это или нет?»
Марии казалось, что мысль, захватившая ее, витает над головой, и самой Марии вроде нет, а лишь мысль, а в ней вся Мария. Если бы была у Марии такая кнопочка: нажал – «как там на душе у Коровкина?» Неважно на душе, думает о ней, грустит?
***
Есть удивительное очарование в зимней утренней Москве! Прислушайтесь к ней в то время, когда еще не стонет от гула улица и над городом покоится та предутренняя темень, которую за ночь никак уж не посчитаешь, но и утром не назовешь. Слышно: скребет дворник в ближайшем дворе, переговариваются редкие прохожие, стремящиеся попасть в метро к его открытию; то там, то сям загораются окна, выбрасывая в сумерки снопы неверного света; за шторами мелькают люди; от домов струится невидимое тепло. Здесь, в Измайлове, еще тихо, а где-то в центре города все сильнее и сильнее разрастается городской шум и не смолкнет до полуночи.
Что ни говорите, а есть что-то необъяснимо приятное в том, что ты, может быть, во всем доме встаешь один, суетишься, одеваясь, прихватывая с собой лопаты и метлу, медленно направляешься из тепла на мороз. Все спят! Один ты и – никого.
Мария удивлялась постоянно: небо чистое, ветер, забыв Измайлово, метался по другим улицам, но слой пушистого снега покрывал асфальт. Правда, стоит метлой махнуть туда-сюда, и он лихо разлетается во все стороны. Мария отложила лопаты и принялась мести метлой. Возле дальнего дома кашлянули – Капитолийский вышел совместить приятное с полезным – подышать утренним свежим морозцем и лично удостовериться, что дворники распоряжения выполняют неукоснительно. С пяти до половины девятого Мария занималась дворами, подъездами – чистила, убирала, потом прибегала кормить Ксюшу. К этому времени девочка просыпалась, морщила личико и всем своим видом заявляла: завтракать.
– Эх, малявочка ты моя, тебя бы еще титечкой кормить ничуть не помешало, – говорила Мария, перестилая пеленки, ловко протирая взопревшие места. – Нету титечки для тебя, миленькая ты моя. А вот мы тебя сейчас кашкой угостим. Вкусна-ая!
Маленькая понимала ее, улыбалась своим беззубым ртом ласковым словам. Раздался звонок, и Мария, увлеченная своим делом, механически отворила дверь. На пороге стоял Оболоков и придерживал коляску рукой.
– Заходите, – пригласила она, удивленная столь раннему приходу кандидата наук.
– Ирина мне сказала, что вы, Маша, согласились посидеть некоторое время с ребенком, – сказал он, распахивая дубленку, вкатил коляску в квартиру и смутился, увидев еще одного ребенка, потом оглянулся на Машу, как бы соображая, что делать, и задумчиво проговорил: – Если вам нужны деньги, вот они, – протянул двадцатипятирублевую бумажку.
– Ну, зачем двадцать пять? Всего-то два дня. И пяти хватит.
Но Оболоков, сохраняя важный и внушительный вид, сняв с взопревшего лба огромную шапку, молча положил деньги на стол, смотрел на Машу, хотел было выйти, но передумал.
– Уютно вы тут устроились, Мария. Тепло, чисто, приятно. А как вам работается?
– Как должно работаться? Как все. Работаю, наука моя нехитрая.
– А я вам признаюсь, мне временами все осточертевает. У меня защита докторской осенью, а я вожусь с ребенком, бегаю мирить свою жену с ее матерью. Ужасно!
– Чего ужасного? А как жить-то семьею вы хотите? – Мария усмехнулась, разглядывая девочку в коляске.
– Но временами у меня на все это терпения не хватает, – проговорил Оболоков хмуро. – У меня такое впечатление, что человечество за период осознанного поведения, создавая свой культурный слой, не имело человека, который погряз бы в мелочах быта так, как я. В таком случае, что такое жизнь?
– Вы ученый, вам лучше знать, – отвечала Мария, глядя на него.
– Эти тряпки, метания по магазинам в поисках молока, смесей, пеленок? Что ж, так и жить? Вот и все высокие идеалы. Попробуй проберись сквозь обывательские путы к этому самому идеалу.
– Как назвали? – спросила Мария, не понимая, зачем ей он говорит об этом.
– Машею.
– Это в честь меня?! – засмеялась она, забирая ребенка из коляски и уж на тахте вынимая из шубки и одеяла, обнаруживая в ворохе пеленок довольно крупную для своего возраста девочку, протянувшую ручонки к Марии, признавая сразу ее и приглашая как бы поиграть с ней.
У Марии сладостно защемило сердце, и она осталась довольна ребенком и своим согласием.
***
Вначале стоило большого труда кормить, купать и прогуливать двух детишек. Потом, наловчившись, Мария убедилась в своих возможностях. Как помогало то, что изредка прибегала излить свои чувства Аленка Топоркова, играла с девочками, сообщая заодно подробности о начавшемся судебном процессе над герцогом де Саркофагом, а на самом деле просто Михаилом Сараевым.
– Знаешь, Манька, сколь ему на самом деле лет? Этому подонку сорок семь лет! А мне, подлец, говорил – тридцать один год! Слушай, это же просто настоящее бандитство – так обманывать! Куда ни кинь – везде клин, везде одно вранье. Чтоб его черт ударил пребольно! Что за человек? – возмущалась Топоркова. – Что это такое, Манька? Что за нечеловек, что за чудовище?! И вот такое чудовище еще уверяет, что любит. А я ему (нашел дуру!) после всего так-то и поверила, так-то я и разнюнилась от его горячих слов с искренними уверениями в любви и вечной преданности, полных одного вранья и подлой жизни. «Я, говорит, – чтоб ему нечисто было на том свете и на этом, – выйду, мы с тобой будем жить не хуже, чем собирались». Так я ему взяла и поверила! Я его, была бы дурой, ждать должна пятнадцать лет, а он выйдет – уже старик в шестьдесят два года, и он меня осчастливит. Убиться веником можно!
– А ты к нему на свидание ходила? – спросила Мария, сочувствуя подруге.
– Ну да. Но я, Маня, просто так ходила, чтоб совесть была спокойная, не мучила потом, когда дочка подрастет, придется ей же говорить: просил, умолял, а я не пришла. Сама знаешь, как я буду выглядеть перед ней. Как-никак, а ей он – отец. А так бы я пошла – скорее рак на горе свистнул.
– Ты его не любишь? – как-то очень тихо проговорила Мария с грустной задумчивостью человека, понимающего, что от любви легко не отвяжешься.
– Я? – выкатила глаза Топоркова, засверкавшие болезненным блеском. – Я его ненавижу! Он мне, негодяй, всю жизнь испортил! Как я его, извини, могу любить? Как? За что? За мерзопакостную ложь? Я его должна ненавидеть, что я и делаю.
– Ох, Аленка, как ему там нелегко будет, да с его замашками-то посольскими, – вздохнула Мария, жалея Топоркову какой-то пронзительной жалостью.
– А мне легко? Ты погляди, какой подлец, куда ни повернись, один обман. Я б его простила, если б он не обманывал. А за подлый обман – ни за что! Я только могу его ненавидеть; у меня и чувства другого к нему нету, Манька. Нету! – закричала вдруг Топоркова и залилась слезами. Тщательно вытерла их через минуту тыльной стороной руки, на какое-то время сжала губы, как бы отгоняя от себя горечь воспоминаний, и продолжала: – Он, знаешь, замучил своими манерами всех милиционеров там. Всех до одного. А судья, тот вообще смотрел на него круглыми глазами и не понимал, то ли Мишель полный дурак, то ли он сам спятил окончательно. «Почему говорите с акцентом, вы же хорошо знаете русский?» – спросил судья. Что ж он ответил? Ты послушай, что он ответил. «А вы так, говорит, меня больше уважать будете». – «Это не имеет для закона никакого значения», – сказал судья. «Для закона не имеет, а для вас имеет», – отвечал Мишель. «Почему у вас галстук-бабочка странный, – специально, чтобы выглядеть, как иностранец?» – «Я протестую!» – отвечал Мишель. «Против чего вы протестуете? У нас нет против чего протестовать». – «Против всего, против вас, потому что вы судите людей, которые помогали другим людям жить. Судить меня не надо, я не преступник! Я продавал лучшие цветы, не обманывал. Я продавал лучшие красоты, не обманывал». – «Это не аргумент», – отвечал судья. – Вы спекулянт!» – «Для вас убить человека – не аргумент!» – закричал Мишель, побледнел, аж жалко его стало, Маня, и понес такую ахинею, ужас было слышать, и я поняла, что он заболел душою. Как он одевался – при галстуке, в английском костюме, ботинках лакированных, а лицо – бледно-бледное, ни кровиночки на лице. «Я, говорит, просил пивной бар, желая работать в баре, мне не дали». – «Зачем вам пивной бар?» – вежливо спросил судья, умный, интеллигентный мужчина. «А вы хотите жить хорошо?!» – закричал Мишель как полоумный и весь покраснел, с ним дурно от гнева сделалось, и его, дурака, увели. Жалко, Маня, его, а так он подлец полный и окончательный. И конечно, у меня к нему одна лишь ненависть. Проживут люди и без его цветов, на вес золота проданных на рынке.