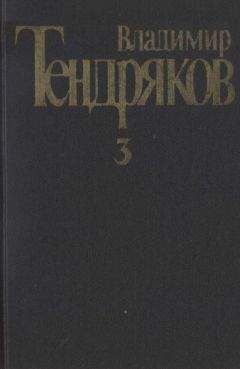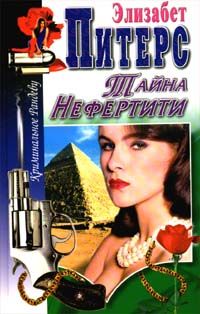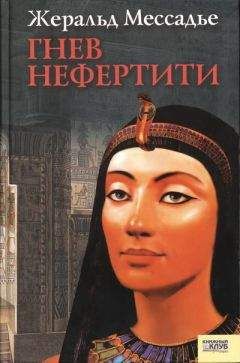Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
Раздался звонок на перерыв. Иван Мыш оторвался от своего мольберта, деловито вытер кисти, бросил в раскрытый этюдник.
Натурщица спрыгнула на пол, оправила платье, кокетливо пошевеливая бедрами, подошла с готовностью на лице умилиться подвигу. Но при взгляде на холст ее лицо вытянулось, щеки словно припорошило пылью, и — болезненный прищур, как на резкий свет.
Все молчали.
Она постояла, помялась и пошла к двери, уже не играя бедрами. Все проводили ее взглядом.
Федор подумал, что дома, оставшись одна, она вспомнит свой портрет и, наверное, будет плакать.
Подошел Савва Ильич. Чуточку бледней, чем всегда, каждая морщинка неподвижна, четко врезана, определенна и загадочна. Над макушкой торчит ребячливый хохолок, руки с усилием вытянуты вдоль тела, спина пряма. Собран и решителен, словно приготовился сообщить какую-то катастрофическую новость — кто-то умер, началась война или же открыт преступный заговор.
— Спасибо за все, Феденька.
— Ты что, уходишь?
— Уезжаю. Сейчас на вокзал.
— Как так? Сейчас?.. Ты что?.. Собирались вместе в Третьяковку. Москву покажу…
— Ничего не хочу.
— Убей, не понимаю.
— Ничего не хочу, ничего больше не надо…
— Да что с тобой?
— Лучшего-то я ничего не увижу. Третьяковка, музеи, Москва — забью голову, замусорю. А это нужно увезти чистеньким. Чудо видел… Буду помнить, покуда жив. Ты уж не обижайся и не упрашивай… Я понимаю — тебе уйти сейчас нельзя, так я один… Сейчас — к вокзалу, куплю билет и домой… Не беспокойся… До конца дней, покуда жив… Ох, Феденька…
— Обожди. Я отпрошусь. Хоть провожу тебя, сумасшедший.
Кто-то успел уже вынести новость за двери мастерской. Валентин Вениаминович стоял перед мольбертом Федора, чуть подавшись вперед, придерживая здоровой рукой протез, оцепеневший.
А кругом — громкий, возбужденный говор, студенты толкутся кучками во всех концах мастерской, заново переживают то, что видели:
— Никакого строгого рисунка, наметил лишь слегка.
— Нашлепок. Нельзя считать законченной работой.
— Не нравится — иди к Мышу, у него закончено до козули в носу.
А у Валентина Вениаминовича — застывший ястребиный профиль, выпячена нижняя губа. Каких-нибудь сорок пять минут назад он был в этой мастерской, даже видел, как водружается на мольберт синий холст. Сорок пять минут — слишком короткое время, чтоб свершилось событие. За это время он, Валентин Вениаминович, должно быть, успел пройти из мастерской в мастерскую, наверное, уже сообщил какому-нибудь первокурснику немудреный совет — находи самое светлое место в натуре и самое темное.
Самое светлое и самое темное — маяки тональности. Первокурсник над натюрмортом с яблоками… Будни… А сейчас — оцепенение. А он-то видал виды.
Федор почтительно выжидал в стороне.
Наконец Валентин Вениаминович разогнулся, вздохнул, секунду, другую еще вглядывался в работу и оторвался, забегал глазами по взбудораженной мастерской, отыскивая Федора.
Федор шагнул к нему:
— Валентин Вениаминович мне нужно проводить своего знакомого…
Валентин Вениаминович положил руку на плечо Федора.
— А правда ли это? — спросил он, кивая на работу. Сам себе ответил: — Правда, но не по мне.
— Это как понимать — не по вас? — насторожился Федор. А он-то ждал похвалы.
— Смотрел сейчас и ловил себя на том, что боюсь тебе верить. Боюсь… И даже чем-то оскорбляет меня твоя работа.
— Но почему?
Валентин Вениаминович помолчал, глядя в сторону.
— Наверное, потому, почему степной пастух, привыкший видеть землю плоской, боится верить, что она круглая.
— Странно… Это похвала или упрек?
— А разве тебя так уж волнуют хвала и упреки из моих уст?
— Странно.
— Я тот пастух из бронзового века… Отсюда вывод — больше я тебе не учитель, оценок не ставлю. Ты перерос меня. Прими это как поздравление.
— Так, может, мне уйти из института?
— В наш канцелярский век тебе, наверное, пригодится бумажка — диплом об окончании. Ради нее благоразумнее побыть в этих стенах. Но я для тебя бесполезен — ничему уже не научу.
Валентин Вениаминович повернулся и хотел уйти.
— У меня к вам просьба, — остановил его Федор.
— Слушаю.
— Разрешите сегодня отлучиться.
— Охотно, но что за причина?
— Нужно проводить на вокзал знакомого.
— Кого это?
— Вы уже видели его. Мой школьный учитель рисования.
— Учитель рисования? Твой?.. Да, да, видел… — Взгляд Валентина Вениаминовича неожиданно стал напряженным. Он негромко спросил: — Когда он приехал?
— Только вчера.
— Вчера… Это он тебя как-то подтолкнул?
— Может быть, чем-то подтолкнул.
— Да, да, ты до его приезда даже чуть-чуть закисал… Слушай, познакомь меня с ним.
— Он будет счастлив.
Савва Ильич в своей рубахе, наглухо застегнутой до подбородка, в пиджачке, жмущем под мышками, в потертых брюках, заправленных в рыжие голенища, до тоски одинокий, затерянный, жался у дверей. При виде приближающегося Валентина Вениаминовича он совсем съежился, стал в смятении прятать руки. Идет к нему справедливый человек — в этом он, Савва Ильич, вроде убедился, — но все же начальство. А начальства-то отставной учитель рисования, компаньон бабки Марфиды, боялся больше всего на свете.
А на носатом, с сурово отвисшей губой лице Валентина Вениаминовича удивление и почтительность.
— Разрешите пожать вашу руку.
Савва Ильич метнул затравленный взгляд на Федора — спасай, друг!
— Валентин Вениаминович хочет познакомиться с тобой.
— Я рад… я… извините… я… — и, раздавленный конфузом, умолк.
Валентин Вениаминович ласково взял своей большой рукой сморщенную, сухонькую руку старика.
— Вы можете гордиться своим учеником. Вы понимаете, что это самая большая похвала учителю.
— Я?.. Да что же это вы?.. Какой я учитель! Вот вы ему…
— Я сегодня убедился, что не стою вас.
— Меня?.. — Савва Ильич с ужасом поднял глаза на Федора, спросил сдавленно: — Смеются?.. Зачем?.. Я же ничего такого… Я только посмотреть пришел…
— Валентин Вениаминович говорит серьезно.
Федора и забавляло, и ему хотелось плакать от родственной жалости к старику.
— Серьезно?.. — почти беззвучно прошептал Савва Ильич.
— Неужели вы думаете, что я позволю себе смеяться? Вы сами не знаете, кто вы. Могу только сказать — и поверьте моим словам — уважаю вас. Глубоко уважаю! Через него… — Валентин Вениаминович кивнул на Федора.
— И вы это всерьез?..
— Поверьте — серьезно.
И Савва Ильич обеими руками схватил широкую ладонь институтского преподавателя живописи, затряс ее, и из глаз, выцветших, стариковских, по изрытым щекам, застревая в морщинах, покатились слезы.
— Спасибо!.. Спасибо!.. Да что же это такое?.. О господи! Большое спасибо!
У Валентина Вениаминовича задрожала упавшая губа.
— Помилуйте — за что?
— Я никогда не слышал таких слов… Таких… Нет, где уж… Ни от кого… Вы первый сказали — уважаете. Надо мной-то больше смеялись…
Валентин Вениаминович, растерянный и расстроенный, повернулся к Федору:
— Федор, — он, кажется, впервые назвал его по имени, а не по фамилии, — это почему такое?..
— Матёра, — пояснил коротко Федор.
— Что?
— В деревне Матёре — двадцать пять дворов, и во всех думают больше о навозе, о зяби, но не о живописи. Кто думает о живописи, тот юродивый.
— О-о!..
Валентин Вениаминович проводил Савву Ильича и Федора до раздевалки. И Савва Ильич освоился настолько, что мужественно вынес, когда Валентин Вениаминович одной рукой довольно ловко помог натянуть ему на плечи ветхое пальтишко.
— До свидания. Если будете в Москве, приходите снова, всегда буду рад вас видеть.
— Нет уж, чего там… Не придется. С молодых лет собирался, а вот когда посчастливилось. Теперь мне одна дорожка — в могилу. Спасибо вам за доброту вашу. Большое спасибо. Так бы и умер, не увидев хорошего человека, не услышав доброго слова.
Все еще стояла гнилая погода. Днем прохожие, казалось, не так спешили, как вечером. Оттесненные потоком машин к стенам домов, люди упрямо шли, шли, шли. А над ними нависал каменный город, мглистый и задумчивый.
Как Федор, так и Савва Ильич должны быть счастливы. Как тот, так и другой пережили по событию, каких еще не случалось в жизни обоих. Федор ни разу не одерживал такой победы. Он знал — она войдет в институтские легенды, ее из года в год будут рассказывать первокурсникам. Савва Ильич никогда не испытывал к себе подобного уважения — победу Федора признали его победой. Единственное в жизни!
Но в добрых морщинах Саввы Ильича — тихая грусть, время от времени он вздыхает.
— Федя… — Голос его слаб, еле слышен в уличном шуме, выцветшие глаза направлены вдаль, сквозь встречных, вырастающих на пути. — Я тебе вчера сказал, что хорошо прожил жизнь. Верил ведь в это. А вот понял сейчас — кто я и что я. Щепка в луже. Кто меня всерьез принимал?.. А здесь руку жмут, разговаривают с уважением. Ежели б в молодости решиться сесть в поезд… Что держало? Жена? Дети?.. Что тебя держало, бобыль паршивый? Какой жизни лишился! В сказках не услышишь, во сне не приснится. Э-э, да что там — после обеда ложки просты. Проплыло мимо, не воротишь… — И вдруг сколовшимся на петушиный крик голосом: — Есть ли, Федюшка, счастливее тебя человек на свете! Наверно, нету!