Василь Земляк - Зеленые млыны
— Руки! — повторяет тот же голос из черных верб.
Так много затворов, а от верб отделяются всего две фигуры, одна топает так, что настил гудит, а другая семенит позади. Полиция. Верно, из Глинска. Слышно по выправке, по шагу. Рихтер каждый день муштрует их на плацу. Можно бы обстрелять этих двоих, но те, в вербах, не выпустят живым с запруды. А может, они думают, что я не один, что остальные в лесу? Но я один как перст. Мне бы сейчас Миколу Гуралика, я бы с вами поговорил по другому. Гуралик отлично стрелял, в лесу выучился. Подымаю руки, да не пустые, с ТТ, который всю дорогу держал наготове. Подымаю, что ж делать. А они уже передо мной, уперлись мне в грудь стволами винтовок. Приглядываются, распознают. Этот здоровяк — уж не Замарчук ли, новый начальник глинской полиции? Люди теперь всех полицаев зовут замарчуками.
…Цыбульские переехали сюда из какого то небольшого городка, переехали без матери, у отца, главного врача больницы, не было времени заниматься дочкой, и он во всем ей потакал. Она же на воле рано созрела и пустилась в девичьи игры, да к тому же достаточно откровенно, даром что мы, ее ровесники, все еще пребывали в фазе чистой любви к ней. Влюбила в себя какого то Кулибабчука из заводских, белобрысого, скуластого, с красивыми серыми глазами. Правда, ненадолго. Кулибабчук потом женился на Поле, рыжей жур бовской красавице, которая к тому времени уже не одного парня вывела в люди.
— Кто такой?.. — спрашивает Замарчук.
…Ну, десятый! Как ты скоро отвоевался, однако! Лель Лелькович, настоящий десятый, ни за что не выскочил бы на эту запруду так безрассудно. — Я? — (Кем бы мне стать в эту неверную минуту? Кулибабчуком? А что если они знают или знали его? До войны он работал эскпедитором. Экспедитора могли знать. Кем угодно, только не им. Да и слишком большая честь для него… — Что-то и сейчас еще было у меня к Цыбульской.) — Гуралик я…
— Лесничий? — Замарчук (это и в самом деле был он) даже отшатнулся. Взгляд у него черный, как ночь.
Лесничего то они знают, если здешние. Еще бы им не знать знаменитого Гуралика. — Сын Гуралика… Микола…
— А идешь куда?
— На завод иду… В ночную смену.
— Где стоишь? Что делаешь на заводе?
— Я? На мойке стою…
— Идешь красть сахар?
— Какой же на мойке сахар? Это там, на варке, — (Как чудесно, что Павло Иванович, наш химик, водил нас на экскурсию. Вот и понадобилось через столько лет!) — А я — вода… Теплая вода. Мою… Свеклу мою. Вам что, никогда не доводилось бывать на мойке?
— Гуралик, говоришь?
— Гуралик…
Замарчук, не поворачиваясь, не моргнув глазом:
— Гуралик! Сюда! Бегом!
Что за напасть? Какой еще Гуралик? Неужто Мико
ла? Наш великий математик, знаток небесной механики, которому учителя пророчили судьбу то ли Кеплера, то ли Лапласа — кого-то из этих двоих (Микола намеревался математически открыть орбиту Фаэтона — погибшей планеты). До этой минуты я был уверен, что Гураликов в лесничестве нет, по моим представлениям, они должны были уехать. А он идет, медленно, должно быть, слышал, кем я назвался.
Подходит, останавливается, всматривается в мое лицо, да так зорко, что у меня мороз по коже. Нет, не он. В Журбове жили еще какие то Гуралики, родичи этих. Так, может, это и есть спасение? Что ему стоит, этому; Гуралику, сказать, что это я сын лесничего…
«Ну, Гуралик. Будь же Гураликом! Не губи душу.
Сам еще совсем молодой». Почувствовал, увял, сму тился. — Ну, он? — спрашивает Замарчук.
— Впервые вижу… — отвечает виновато Гуралик. Замарчук улыбнулся, показав белые зубы, поймал таки меня, аспид, на Гуралике. Наверно, и на Кулибабчуке поймал бы, и на любом другом. Кивнул подчиненному, тот, проворный, как сороконожка, ощупывает меня. Лазит по наружным карманам пальто, вытряхивает несколько сигарет и спички (Паня выменяла их у немцев на яйца, это, собственно, и есть вся плата мне за крышу), после наружных Сороконожка тянется к внутреннему карману — это мой конец, там вторая обойма от ТТ… Дико вскрикивает, но уже поздно…
— Десятый! — Замарчук отшатывается, с ходу стреляет и быстро отступает к вербам.
А тут падает Сороконожка, падает Гуралик (он так и не успел снять винтовку с плеча), а я ослеп от вспышек, не вижу, куда бежать, стою над этими двумя: «Гуралик… Гуралик…» Молчит. А я то целился в Замарчу ка… И Сороконожка молчит…
А те, в вербах, присоединились к Замарчуку, поднялись с ним на пригорок, куда круто взбегает дорога с запруды, и, осмелев, палят из винтовок, беспорядочно — может, по запруде, а может,_ просто вызывают подмогу с завода. Отозвалась им лишь «овечка», которая могла только что прибыть из Пилипов. Немцы несколько дней назад пустили завод, и «овечка» подвозит из Пилипов известняк, уголь, свеклу. Она отозвалась вяло, словно устала с дороги. До войны по заводской ветке ходил куда более солидный поезд с классным вагоном, в который продавались билеты до Пилипов (это отсюда восемнадцать километров). А там уже Юго Западная дорога, большие станции.
Усадьба Гураликов когда то была подлинным райским уголком. Причудливых очертаний, вся в зелени, на пригорке. Бывало, выйдешь туда из дубняка и невольно залюбуешься идиллией: гудят пчелы, кудахчут куры, из амбаров пахнет сеном и дровами. Пасека стояла кучно, выставляли ее, как зацветет верба, от цвета которой пчелы становились желтые, точно медные. Казалось, они и не гудели, как в других местах, а вызванивали в воздухе. Оба Гуралика — отец и сын — боялись пчел, и за пасекой ухаживала мать, Екатерина Григорьевна. Стучусь в окно. В сенях заскулил пес. К окну подходит женщина, настороженно смотрит на меня. Вроде хозяйка.
— Катерина Григорьевна! Это я… Помните?..
— Нету их. Выехали.
— Давно? — (Какой нелепый вопрос!)
— Тогда же. Когда все бежали.
— А вы кто же?
— Новый лесничий… Вам лесничего?
— Нет… Нет… Я к Гураликам…
— Выехали…
Обидно мне, что их нет, а вроде на душе полегчало. И колодец тот же, с журавлем, и сараи, и дрова лежат ровными штабелями, и сено в стогах, как при Гурали ке… Женщина уходит, а вместо нее в окне голова лесничего, волосы растрепаны, лицо вытянулось от страха, поперек — черные усы, вид крайне недоброжелательный. Немыслимо даже представить себе на этой голове фуражку с гербом, которую столько лет носил Гуралик.
— Кого тебе?
— Микола, сын лесничего, не объявлялся здесь?
— Не объявлялся… А что?
— Если объявится, скажите, что его друг заходил.
— Какой, Друг? Откуда?
— Он знает…
Ухожу от этого двора, от этой головы в окне. Собака в сенях все скулит. Те могут прийти сюда за Мико лой. Надо поскорей выбираться из лесу. Тут неподалеку заводской пруд переходит в топь, в болото. Там должна быть гать. Еще Микола как то рассказывал мне о ней: зимой, когда гать промерзает, по ней ходят на охоту волки и браконьеры. Микола с отцом часто устраивали там засаду на волков. И на браконьеров. Новый лесничий может и не знать о ней, а мне как раз удобнее всего воспользоваться гатью.
Микола уверял, что в этих дебрях водятся болотные черти. И вот он передо мной: весь в тине, глаза горят — постоял, покачал головой и зашлепал на гать. Только, странное дело — босиком, а сапоги, связанные за белые ушки, перекинуты через плечо. Микола про сапоги ничего не говорил, да и откуда сапоги у водяного, верно, они, как и сам водяной, — плод моего больного воображения, фантазия. Однако, хороша фантазия — ведет меня, показывает путь. Гать и в самом деле никудышная, шаткая, местами уходит в тину — волчья гать. Призраку все равно, под ним только в одном месте прогнулось, словно и он живой, а мне сложнее, один неосторожныи шаг — и на том свете. На самой круче нац Журбовом вспыхнула ракета, доносится рычание мотоциклов, а в хор журбовских собак врывается что-то чужое — овчарки. Однажды на Хорольских болотах мне уже доводилось слышать их вой: пронзительные, пробирающие до костей звуки. А тут, как нарочно, и водяной запропастился куда то. Ну как после этого доверять свою жизнь нечистой силе? Гати больше нет, оборвалась. Слышно только, как журчит ручеек, пробивший себе и Здесь дорогу.
Овчарки стали на след, ведут к лесничеству. Слышны крики. Наверное, вывели из дома лесничего, лесни чиху, детей. Подожгли дом или что-то сухое во дворе, сразу вспыхнуло, осветило лес, болото. И тут я вижу сушу — всего раз шагнуть, через ручеек. Перебираюсь туда, дохожу мелколесьем до мокрого луга.
А в это время рассвет. И лошади. Журбовские лошади… После беготни по волчьей гати лошади — словно мираж. Немалый табун, да будто растревоженный. Жеребята встали, потягиваются, как дети спросонок, вон белый, один на весь табун, а его белой матери не видно, и конюха ночного не видно, должно быть, их с вечера пригоняют сюда, а утром приходят за ними.
Среди старых, отработавших свое кляч, совершенно равнодушных к моему появлению, есть и настороженные, быстроглазые лошадки, как раз для меня. Вон хоть бы тот гнедой — чуть ли не первым заметил меня и зафыркал с опаской. Иду к нему: ксёв, ксёв, ксёв, цось, цось, цось! Подошел, а он — на дыбы и ходу. Бросаюсь к другому, к третьему — то же самое. Всполошился весь табун. Собаки лают уже в Черемске, там, где мне привиделся водяной (должно быть, еще тот, из Миколиного детства), а тут человек мечется в табуне, заглядывает с мольбой в угасшие глаза кляч, да все напрасно.

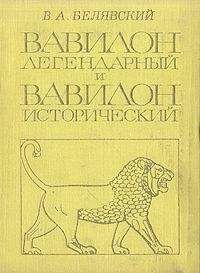


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)