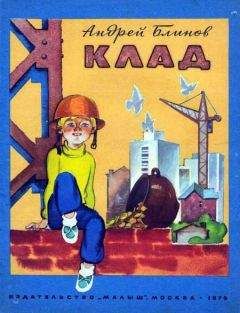Борис Блинов - Порт
За низкими елками пруд блеснул. А после пруда чуть в горку, через малинник — и внизу деревенька в шесть дворов, его Серогопкино. А в ней уж и домик виден, тесовый, чистенький, и белый куст жасмина у стенки в два окна. И вся другая весна куда-то на задний план отдалилась. Он с этим домиком сразу связь установил. Шел дальше, умеряя сердечную прыть, а домик этот светил ему тесово-жасминовой стенкой и уже ни на миг от себя не отпускал. И легкое немое оцепенение стало сводить затылок, как бывало в далеком детстве.
Мария встречала его у калитки. Стояла, как девушка, смущенная, бледная, не очень похожая на себя. Обняла его с тихим стоном, спрятав лицо на груди, прижалась крепко и долго не отпускала… не поднимала головы. А когда оторвалась от него, в дом его повела к накрытому столу, в глазах у нее стояли слезы.
А он, пень старый, тогда ничего еще не понял. Что ж, думал, долгожданная встреча, почти год не виделись. Он сам был к слезам близок.
А потом она упала. На ровном месте. Шла от летней кухоньки, хотела к столу свежей зелени добавить — и словно переломилась пополам, рухнула. Редиска красная раскатилась по полу, подпрыгивая.
Он бросился к Марии, стал помогать, а она подняться совсем не может. Не бог весть какой он силы, но тут смог, поднял ее на руки, донес до койки, уложил… И страшно ему стало. Как перед каменной стеной, которую не одолеть, не сломать, за которую не проникнуть. Словно замуровали его в склепе: спрашивает, задает вопросы, а она молчит, глаза закрыв, то ли не в силах говорить, то ли говорить боится.
Выбежал он во двор, кликнул соседку Андреевну, которая рядом, на своем участке в земле копалась. Андреевна простая душа, быстрая, радостная, к нему катышком подкатилась и давай обнимать да причитать, обдавая винным духом.
— Погоди, Андреевна, не тараторь, — отстранился он от ее доброты. — Скажи, что с Машей? Лежит она. Упала и лежит.
Лицо Андреевны сморщилось, как печеное яблоко, и вмиг глаза заполнились слезами.
— Мило-ой, — заголосила она, — и что за напасть на нашу головушку? Совсем, как ты уехамши, здорова была, а враз на Миколу Кочанного малость зашиблась, впала в хворь да с той поры не разгинется. И така скаженна та хворина, не знамши, не гадамши, враз голубушку примяла. Лежит, милой, часто лежит. Третьего дня только поднямши, как от тебя цидулку получила.
С трудом продираясь через ее «знамши» и «поднямши», он уяснил себе, что произошло: еще прошлым летом, собирая яблоки, упала Мария со стремянки. Немножко полежала, потом поднялась, отошла, но всю зиму ее мучили боли в ушибленном боку. Андреевна ей помогала, как могла, но по просьбе Марии ему ничего не сообщила. Врачи лечили ее, и в город она ездила, и в больницу клали. А потом выпустили и дали лекарства, которые не помогают. А она, бедная, на глазах тает, и боли у нее такие, что временами криком кричит.
— Бросай все, будь при ней безвыходно, потом сочтемся. Мне отлучиться надо, — сказал Петрович соседке и, не слушая ее долгого согласия, той же дорогой, что пришел сюда, бегом на станцию, в районную больницу.
Нашел лечащего врача, усталую, пожилую женщину с венозными руками, и от нее узнал название той страшной болезни, от которой еще не придумано лекарства.
Это здесь не придумано, а там, в Москве, или за границей?
— Не ездите. Не мучьте ни ее, ни себя, — сказала женщина. — Надежды нет.
Это она так сказала, чужой человек. А он-то знал, что врачи ошибаются, и не мог поверить, что смертельный приговор произнесен устами сельского, утомленного жизнью врача. Земля-то она, ох, какая большая.
— Я и в Новой Зеландии был и на Филиппинах! Там лечат!
Женщина дотронулась до его руки и покачала головой:
— Я разделяю ваше горе. Но, правда, поверьте мне — нигде не лечат.
Петрович дернулся, словно она его током поразила.
«Что вы понимаете? Для вас и вены на руках неизлечимы». — Внутри себя он прокричал это, но не произнес.
— Документы, — попросил он, — документы ее мне приготовьте. Я зайду.
Ему надо было торопиться.
Переговорный пункт находился в пяти минутах от больницы. Он бегом до него добежал и срочный из самых срочных заказов сделал, растормошив свою записную книжку.
А пока бежал, вспомнил и фамилию и отчество того человека, который один сейчас, казалось, в силах был ему помочь. Он был уверен. А как же. В Москве, в министерстве работает, с самим министром знаком — тот партнер Петровича по шахматам, сильный в эндшпиле, перед которым сам капитан трепетал и по всему судну искал веник, когда тому в баню захотелось. А капитан просто так бегать не будет.
Не сразу он смог на него выйти, но наконец, и телеграфистку замучив, и сам вымокнув до нитки, отловил где-то на даче. Тот далекий Иван Романыч долго не мог вспомнить, кто это его беспокоит в такой ласковый отпускной день. Но потом признал, удивился, сердечно поздоровался.
А Петрович, пока до него дозванивался, весь рейс их совместный в памяти перебрал, редкие разговоры, совместные бани, длинные партии. По всему выходило, что чуткий и серьезный человек. Телефоны свои дал, звони, говорит, если что. Очень близким человеком Иван Романыч для него сделался.
— Беда, Иван Романыч, — поведал Петрович и принялся издалека объяснять про пенсию, про домик, про жену… Надо было так сказать, чтобы Романыч понял его, проникся его чувствами. А слова шли трудно.
— Сочувствую, да, да, бывает. Ох, наша жизнь… — легко отзывался Иван Романыч, и Петрович понимал, что не то говорит, не так.
— Тридцать лет обещал ей… Всю жизнь. Не жила она еще, — внушал Петрович и снова про машину говорил, про путешествия, про будущую жизнь, стараясь пробиться через отпускное благодушие Ивана Романыча.
— Тяжело, я понимаю. Но, извини, я-то при чем? — недоумевал тот.
— Как же! Москва! Институты умные, большие люди! На тебя вся надежда. Помоги! — взывал Петрович и, не чувствуя ответного отклика, выкрикнул, продираясь сквозь собственный стыд: — Я ведь плавал долго, Романыч! Все, что есть, машину, дом — все отдам.
— А вот этого не надо, — сухо и строго сказал Иван Романыч и замолчал надолго.
Петрович мучительно напрягся, чувствуя, что им овладевает немота. И тут откуда-то из глубины, с самого душевного донышка к нему пришли слова:
— Романыч, мы же русские люди. Христом богом тебя молю. Спаси, добрый человек… Нет мне прощения. Если чего — руки на себя наложу.
Слезы текли по его лицу, он не замечал их. В трубке шуршали, щелкали помехи, как в большом эфире, который он прослушивал все тридцать лет и к которому теперь взывал, бросив первый и последний в своей жизни сигнал о помощи.
Сколько таких сигналов носилось в пространстве, перехлестывая, забивая друг друга и стихнув, так и не найдя ответного отклика!
Шорохи, скрипы, щелчки превращались в знакомые сочетания точек и тире, и казалось, он различает понятный каждому радисту язык, которым говорят в беде: «Чарли», «Джульетта», «Оскар»: «У меня пожар», «Не могу управляться», «Снимите людей». И над всем этим шумно дышало пространство, меняя тональность, — длинный выдох, короткий вдох, выдох-вдох: тире-точка, тире-точка, — перевел он, что по международному своду сигналов означало «Новембер» — НЕТ.
Вдруг через весь этот звуковой хаос до него донесся строгий, деловой и серьезный голос:
— Ладно, приезжай. На месте разберемся. Запиши координаты.
Потом была Москва. Раскаленная, многолюдная, всесильная. Была надежда.
Иван Романыч поселил их в своей пустующей квартире, помог навести связи и вернулся на дачу, удивленный напором и жизненной силой, которую трудно было предположить в скромном и тихом судовом радисте.
А Петрович продолжал действовать. Откуда только у него энергия бралась, как у прожженного столичного маклера, уговаривать, дарить, совать, упрашивать, угощать, подносить, доставать. Даже привыкший ко всему медицинский персонал пасовал перед его напором. Но все это мелочью было в сравнении с тем главным, что заставляло его действовать, он мог бы и в космос пробиться и на Филиппины, если бы знал, что ее там вылечат, — только Мария была сейчас во всем мире, ее жизнь, рядом с которой стояла смерть.
В лучшей клинике страны ее оперировал европейски известный хирург. Операция прошла успешно, но с тех пор Мария больше не вставала.
Он добился ей отдельной палаты и ночами не отходил от ее койки, а днем мотался по Москве, добывая драгоценные лекарства, организовывал консультации, добивался консилиумов. Все самые редкие и современные способы лечения были испробованы, чтобы поднять ее на ноги.
Но вот и Москва осталась позади.
Серым сентябрьским днем по расхлябанному уже проселку медленно двигалась «скорая помощь». Остывшее после лета Серогопкино встречало их желтизной листвы и ярко налитыми плодами садов.
Машина плавно объезжала ямы, колдобины, кузов пружинил на гидравлических опорах, снабженных успокоителем качки, не беспокоя, не тревожа пассажиров. Последнее, что смог сделать для него добрый Иван Романыч, — достать вот эту спецмашину с кондиционером.