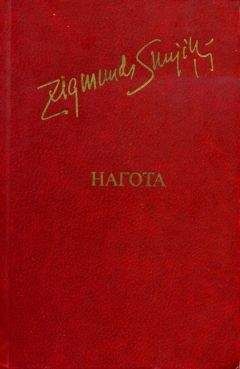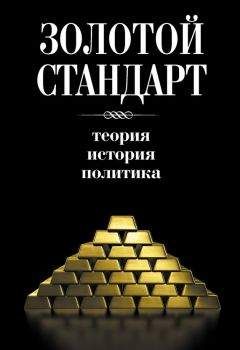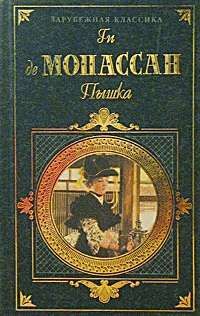Зигмунд Скуинь - Кровать с золотой ножкой
— А этот дом кому достанется? — возражала Нора. — Подумайте, сколько лет Леонтине! Два века никому на свете не прожить, и Особняк свой в рай не унесет.
— Еще как знать, кому Леонтина дом оставит. Она вся в Ноаса, попробуй ее раскуси, — наклонность Петериса к воспоминаниям проявлялась в бесстрастном многословии. — К тому же, будь спокойна, она переживет любого и каждого. Помяните мое слово!
— Ну, завелись, — сказал Гунар. Эту фразу он ронял при всяком подходящем и неподходящем случае, а потому ничего особенного она не означала. Вся суть заключалась в добавлении: — Вопрос обсуждению не подлежит! Иначе получится, будто мы дожидаемся смерти Леонтины.
— Легко сказать — построить дом… А подумать не мешает!
— Если Гунар хочет, пусть строит, — вставил Петерис. — Молодым людям рвение к лицу. Дело это не скорое. Покуда построишь…
Слова Петериса оказались пророческими. Пришлось немало приложить стараний, чтобы получить участок. Человеку, не знакомому с делом, может показаться странным: в чем же трудности, свободной земли вокруг Зунте предостаточно. Но пустыри в районе порта собственность рыболовецкого колхоза, а земли прибрежной полосы — колхоза «Двадцати шести бакинских комиссаров». Свободным оставался район в направлении кладбища. Но здесь застройка шла столь бурными темпами, что пустующими оказались лишь земли, примыкающие к кладбищенской ограде. На такой участок ни Гунар, ни его жена Инита, уж не говоря о Петерисе и Норе, не соглашались. В конце концов участок, к тому же и прекрасно расположенный, удалось заполучить от вдовы Анджа Зирака. По скоропостижной смерти Анджа вдове строительство стало не по силам.
Весной Гунар ушел в дальнее плавание, и строительные работы почти полностью застопорились. Петерис натянул вокруг участка невысокий проволочный забор, вырыл колодец, посадил плодовые деревца, а за вторую половину лета сколотил дощатую времянку, где самим и Левкое, козе Петериса, во время дождя схорониться, инструмент и материалы держать.
Стоило Петерису лишь слегка окропить землю своим потом, как опять проснулся в нем земледелец. До поздней осени Петерис в Особняке появлялся не более двух раз в неделю, когда ему, по договору с Леонтиной, приходилось перекапывать невероятно запущенный сад.
Весной Петерис собирал березовые почки; на водке настоянные, они помогали как от внутренних, так и наружных недугов. Подумать только, силища какая у этой почки, сама невеличка, а вон какой лист из себя гонит! Эликсир жизни. Сжатая пружина плодородия. Зачатки строек в новом районе казались Петерису сродни набухающим почкам. Здесь, где цвели надежды, били ключом предприимчивость, упорство, смекалка, казалось, и воздух был какой-то особенный. Тут и дышалось легко, и не донимали скверные мысли, даже усталость множила силы. Гунар, вернувшись из плавания, от удивления слова не мог вымолвить: вокруг участка, на сколько хватал глаз, все переменилось, можно подумать, он долгие годы качался на волнах Атлантики.
— Ну, завелись! А это что за фабрика?
— Как, ты не знаешь? Там будет новая водокачка.
В ту пору ни Гунару, ни Петерису, вообще никому из зунтян и во сне не снилось, каким тугим узлом в ближайшее время будущее Зунте повяжется с его прошлым.
Местный люд редко на себе примерял такое слово, как смерть. Как-то не шло оно с языка. Если кто-то умирал, о нем говорили: ушел к праотцам или в мир иной. За этим стояло свое мироощущение: смерть бессильна лишить их права быть и оставаться зунтянамн. Вся разница заключалась в том, что те зунтяне, которых в своем беге опережала волна жизни и которые, стало быть, переступали порог вечности, покоились на кладбище. Городское кладбище — его изначальная история таилась во мгле веков — своими свежими могилами подступало к сегодняшнему дню города. Кладбище с его четырьмя угловыми столбами было как бы намертво брошенным якорем, которым Зунте держалось во времени и пространстве.
Миновав всегда открытые ворота — два кряжистых, из валунов сложенных столба, — самые болтливые тетушки проникались благоговением и робостью, самые отъявленные горлопаны почтительно умолкали. Под густыми кронами вековых деревьев и в солнечные дни держался торжественный сумрак. Дорожки аккуратно подметались, воздух полон запахов, как в парнике или в лесу на солнцепеке. Весной распевали соловьи и куковали кукушки. Осенью, когда желтели деревья и землю устилал ковер из опавшей листвы, все кладбище как бы светилось изнутри. Зимой в голых ветвях тихо посвистывал ветер. Когда построили звонницу на четырех столбах под замшелой черепичной крышей и небольшую каменную часовню, откуда вечно, как из ледника, тянуло холодом, никто не мог сказать. Никто, однако, из зунтян не сомневался, что именно этот колокол отзванивал всех пращуров и что отцы их и деды к своему земному упокоению проходили через холодок этой часовенки.
Первые слухи были смутные: что-то не ладно с новой водокачкой. То ли место выбрали слишком близко от кладбища, то ли что другое. Дескать, инженеры рассчитали все по правилам, да ведь не всегда по правилам получается. Один дает задание, второй планирует, третий распоряжается, тут всякое может случиться. Поговорили люди, пошутили, покачали головами, да и забыли. Водонапорную станцию понемногу продолжали строить. Этот факт истолковали в том смысле, что тучи рассеялись и никаких сюрпризов не ожидается. Мало ли что наговорят. Каких басен не распускали о районном элеваторе и мосте через речку Бренчупе…
Следующей весной подоспела новая весть: близ Стропиней решено учредить новое кладбище. Будто бы из надежных источников стало известно. И опять заклубились толки на уровне слухов и шуток. Среди зунтян не было шахматистов высокого класса, их наивно-простоватое мышление не схватывало всей комбинации в целом. Они рассуждали так. Ишь до чего додумались: второе кладбище в Зунте устроить! Ну, конечно, повадились нынче все перенимать у Риги, там этих кладбищ без счета — чуть ли не в каждом районе свое. Нет, уж увольте, мы с этим новым заказником бренных костей дел иметь не желаем. А потом, что за дурацкая затея — кладбище на болоте? Звучит, конечно, красиво: кладбище в Стропинях… Да кто ж не знает настоящего названия того места — Стропиневская топь. Пока отводной канал не прорыли, туда вообще было не сунуться.
Присмотревшись к тому, что творилось в Стропинях, горожане с еще большим недоумением стали пожимать плечами. Где же отыщется дурак, который согласится похоронить там близкого человека? Место захламленное, ни колокола, ни часовни, ни колодца.
Пока зунтяне таким манером обсуждали, надо сказать, чисто теоретически, непригодность нового кладбища для известного предназначения, смерть внезапно оборвала жизнь Саши Хохохо. Его паспортной фамилии толком никто не знал. В Зунте Саша объявился после войны, всех покорив своим уменьем бросовую жесть превращать в луженые и оцинкованные котелки, тазы, бидоны. Одно нехорошо: Саша много зарабатывал, а все заработанное пропивал. Поэтому делом занимался урывками, а пил частенько. Саша не умывался, не брился, не стригся. Купив в магазине очередную бутылку, он ее сначала нежно целовал, затем исторгал из себя громогласное: хо! хо! хо!
На северной окраине Зунте, у бывшей пограничной канавы Саша сколотил небольшую мастерскую с горном и мехами. И сам поселился в прилепившейся к мастерской каморке. В тот субботний вечер Саша, разумеется крепко поддав, завалился на лежанку с папиросой в зубах. Когда сбежались люди, спасать уже было нечего. Милиционеры погрузили обгоревшее тело в машину и повезли на экспертизу. После того как на второй и третий день никаких вестей о Саше не поступило, разнесся слух, что, ввиду отсутствия близких, труп забрали для научных целей: сунут-де в какой-нибудь раствор, потом дадут кромсать студентам. На четвертый день Сашу привезли обратно. Гроб с телом машина доставила в Стропини, где Сашу, основателя и застрельщика нового кладбища, и зарыли посреди пустыря.
Захоронение Саши Хохохо на новом кладбище явилось завершающей стадией давно намечавшегося закрытия старого кладбища. В районной газете появилось извещение: «В связи с открытием кладбища в Стропинях захоронение на Старом кладбище г. Зунте прекращается с 15 июня с. г.».
Поскольку инициатором закрытия Старого кладбища был представитель исполнительной власти в Зунте Рупейк, несколько слов придется сказать и о нем. Рупейк относился к той категории работников, которых принято называть растущими. Жизнь его кидала с места на место, но каждый раз подкидывала выше и выше. Был он непоседлив, деятелен, упорен, к тому же и с выдумкой. Сил не жалел, лишь бы все было хорошо. А хорошо, по его понятию, это когда сверху не сыпались выговоры и не вызывали на проработку. О том, что неприятности могут исходить иногда и снизу, Рупейк пока как-то не задумывался.